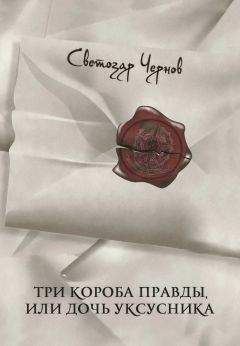Владимир Александрович милостиво пригласил Клепша разделить с ними их далеко не скромную трапезу — великий князь знал его с тех времен, когда старший братец был еще цесаревичем.
— Граф, — обратился полковник к Волкенштейну. — Курьер только что доставил пакет с почтой, в которой содержатся важные сведения, касающиеся Его Высочества. По сведениям нашего военного атташе в Париже майора Сильвиньи, нигилисты намерены произвести взрыв во французском посольстве в Петербурге во время официального приема, устраиваемого герцогом Монтебелло для русского императора, и уничтожить его вместе с семьей и великими князьями.
— И директор полиции смеет утверждать, что никаких заговоров нет, а мне ничего не угрожает! — загрохотал Владимир Александрович. — Скажите мне, граф, что сделал бы начальник австрийской полиции, если бы русский царь известил его о заговоре против вашего императора!
— У нас был бы страшный переполох и беспорядок, я так думаю, — сказал Волкенштейн.
— А у нас даже беспорядка нет. Наоборот, тишина и спокойствие. Полиция бездействует, а обратись я к начальнику царской охраны — так он меня просто высмеет!
— Генерал Черевин — удивительно неприятный субъект, — согласился Волкенштейн, который прекрасно знал генерала — квартира его находилась на первом этаже в том же доме, что и австрийское посольство. — Однако его сын значительно нам неприятнее. Третьего дня, когда Ваше Высочество приезжало к нам, на крыльце посольства лежали неопознанные экскременты, и кто-то рукою этого самого сына генерала Черевина написал на стене грифелем: «От лиги чешско-сербских патриотов».
— Генерал Черевин со своим сыном-корнетом очень недружелюбны по отношению к Австрии, — поддержал посла полковник Клепш. — Я заметил, что он никогда не пьет у себя в квартире, а только по ресторанам и в Яхт-клубе, — дома он только спит, — но он специально выставляет пустые бутылки на подоконник. Чтобы портить внешний вид нашего посольства.
***
Бутылки в черевинском окне раздражали не только австрийцев. О них любили посудачить посетители варгунинского трактира по соседству, они обсуждались в салоне графини Клейнмихель, и даже Петр Емельянович Владимиров, вышедший с супругой прогуляться перед сном после плотного рождественского обеда, не смог обойти их вниманием.
— Зря ты сомневаешься, Гапушка, — говорил кухмистер жене. — Мне так кажется, что господин Владимиров со своим начальником не простые какие агенты полицейские, а в самой царской охране служат. Больно уж они нахальные, да промеж собою как равные говорят, хотя один в шубе, а другой в пальтецо. А чин царской охраны, Гапушка, куда важнее врача или инженера. Вот взгляни на окна генерала Черевина. Кто еще решился бы в доме австрийского посольства подоконники пустыми бутылками заставить? А этому хоть бы хны. Другого в участок бы сволокли, а тут какой уж участок! Сам кого хочешь в Сибирь отправит. Я вот слыхал, что Черевин одного жида-адвоката на три месяца в Сибирь заслал как политически неблагонадежного, чтобы тот на процессе какой-то его просительницы речь супротив нее произнести не смог. Или, скажем, с варгунинским младшим сынком история. Уж кого только не подмазывал папаша, когда его оглобля в присутствии жребий вытянула. Ничего не помогало. За пять тысяч пытался его в учителя сельские пристроить, семь предлагал, чтобы в ветеринары записали. Уже все, в Туркестанский округ назначили — а Черевин взял, да отменил. Теперь в гвардии служит.
— Ох, Петр Емельянович, неспокойно мне… — отвечала супруга. — Куда лучше анжинер какой гражданской, или даже врач…
— Врачи все выкресты, очень такого добра надо. Да и прими ты в рассуждение, голова твоя еловая, что врачи с инженерами к нам не сватались до сих пор.
— И агенты не сватались, — слабо попыталась возразить жена. — Ну что же ты опять-то за это дело с наследством ухватился, и так весь город смеется! У Варгунина в свечной лавке приказчики до сих пор зубы скалят, когда я мимо хожу.
— Вот уж я Артемию Ивановичу скажу, что сынок Варгунина в дом к Варакуте и к Симановичу часто ходит — сразу скалиться перестанут. Лукич говорит, что наши господа очень посетителями этого дома интересовались. Вот уж я с Варгуниным поквитаюсь. А как Варгунина разорим, я его трактир куплю.
Супруги Владимировы остановились напротив дома с вывеской «Трактирное заведение Варгунина». Предвкушая скорое разорение своего конкурента, Петр Емельянович представил, как вместо этой аляповатой вывески повесит новую, скромную и внушительную, золотыми буквами на зеленом фоне: «Крымские и кавказские вина П. Е. Владимирова, поставщика двора Его Императорского Величества». Мечта завести винную торговлю овладела кухмистером еще с первого приступа к владимирскому наследству.
«Надо будет написать князю Голицину, что я закуплю наперед партию в тысячу бутылок», — подумал он.
— Пошли уж домой, Петр Емельянович, — дернула его за рукав супруга. — Спать пора, а ты вон как разгорячился. Ты же не управишься иначе к обеду все приготовить!
— А Варгунина я все равно разорю, — сказал кухмистер и до самого дома Клейнмихель оглядывался назад и что-то бормотал угрожающе.
Здесь их обогнала карета и, едва не задев кухмистершу ступицей заднего колеса, подкатила к парадному крыльцу.
— Тьфу, карлик выскочил, — сплюнул презрительно кухмистер, когда они отошли на несколько шагов и осмелились оглянуться на карету. — Он думает, что он пуп земли. Генералишка в шубейке, и та криво сидит. Вот увидишь: как дочку замуж выдадим — такие генералы тебя за 100 саженей будут объезжать. Придешь туда на бал, свет прикрутишь да скажешь: «Заведение закрывается». И все как тараканы на улицу прыснут. Смотри, жена на полголовы его выше, а он туда же — в генералы!
— Петенька, ну что ты все время дуешься? — спросила тем временем мужа генеральша, вылезая из кареты. — Зачем ты Парамона уволил? Уж семь лет у тебя шубы крал, так ты мог бы и до конца святок потерпеть. Не делается так у людей — чтобы на Рождество камердинера увольнять, а потом самому одеваться. Да я без камеристки в корсет влезу скорее, чем ты один без Парамона — в свой мундир.
— Захотел — и уволил! — рявкнул Петр Николаевич Дурново. — Без бабья разберусь.
Сегодня утром к нему явился его сосед, генерал-майор граф Келлер, и устроил прямо при прислуге громогласный скандал. «Вы что же это, милостивый государь, — кричал граф командным голосом, — посылаете камердинера через чужую прислугу шубы воровать для своих надобностей?! И зачем вам понадобилась моя шуба, когда при вашем росте ее рукава хватило бы или жениной муфты?! Мало того что по лестнице к вам мазурики каждый день шляются, которых в приличном доме швейцар дальше крыльца не пустил бы, так вы еще моего собственного камердинера развращаете, чтобы у меня шубы крал!» Пришлось тут же, при Келлере, рассчитать Парамона и выгнать взашей. Теперь Петра Николаевича угнетала мысль о том, что граф, будучи родным братом графини Клейнмихель, хозяйки сегодняшнего благотворительного вечера, может запросто оказаться здесь же и выставить его на посмешище всему собравшемуся обществу.
Дурново взглянул на солидного швейцара, распахнувшего перед ним дверь парадного подъезда. «Всё уже знает, подлец», — подумал Дурново, глядя на его обрюзгшее лицо, заключенное в волосатую раму из бакенбард и бороды, на котором ровно ничего не было написано.
— Бог мой, Петр Николаевич, — ужаснулась его жена, когда после темноты улицы они оказались в вестибюле на ярком свету и лакеи помогли снять шубы.
Директор Департамента полиции огляделся. Келлера внизу не было. Справа среди ельника, составленного из молодых деревьев, купленных гуртом у Гостиного двора и покрытых, словно инеем кристаллами соли, выглядывало стоявшее торчком медвежье чучело. Обычно оно находилось у лестницы с подносом для визитных карточек; к этому вечеру, дававшемуся в пользу Сергиевского братства, поднос у чучела отобрали, и, подкрасив йодной настойкой поеденные молью места, поместили у самого входа, перед дверями уборной. Оскалившаяся морда медведицы будто говорила приветливо всем входящим: жертвуйте, братцы, на приют и жалование отцу Василию Корыстину, поднос вас ждет наверху.
— А что, любезный, граф Келлер уже прибыл? — спросил Дурново у лакея.
— Уже час как здесь, ваше превосходительство.
— Да ты совсем, как пугало! — продолжала пилить Петра Николаевича супруга. — Я пойду в уборную, приведу себя в порядок, а ты пока скажи лакею, чтобы он на тебе мундир оправил. Не позорь меня.
— А ты нос не забудь припудрить, — огрызнулся он. — У тебя сосулька на нем.
Петр Николаевич отмахнулся от лакея, который, слышав слова г-жи Дурново, подошел помочь, и от волнения принялся бегать из угла в угол вестибюля, то и дело оглядываясь на медведицу. Ему казалось, что теперь она скалится над ним, дескать, я хоть и женского полу, но в тебе и половины моего роста нету. Какой несуразный человечишка.