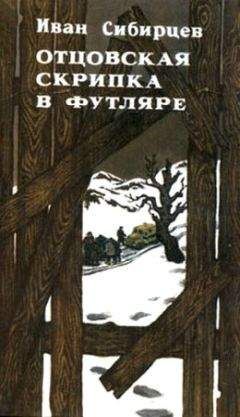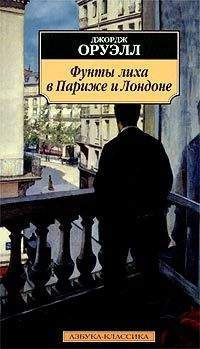— Не классики они, Максим-то с Кириллом, — сказал Оладышкин с горестным вздохом.
Глеб понял, что сейчас спор разгорится с новой силой, и с шумом распахнул дверь. Глядя на Мая Севостьяновича, пробормотал скороговоркой:
— Здравствуйте! Я — в самодеятельность.
Оладышкин, невысокий, рыхлый человек, одетый несмотря на жару в хромовые, до блеска начищенные сапоги и шевиотовый бутылочного цвета костюм, замигал на Глеба белесыми ресницами, но, сообразив, что появление парня сулит ему передышку в безнадежном споре, расклеил в полуулыбке толстые губы и сказал:
— Здравствуй. Входи, пожалуйста. Клуб как очаг культуры всегда готов сказать: добро пожаловать каждому, у кого стремление посвятить способности и досуг…
Настя при появлении Глеба отступила назад, смерила порицающим взглядом и, слегка покраснев, сердито сказала:
— Здравствуйте. Но вы не по адресу. Секция тяжелой атлетики на стадионе. Вас интересует это?
«Меня интересуешь ты. Но я буду последним подонком, если хоть чем-то обижу тебя…»
Это обещание Глеба самому себе несколько успокоило его.
— Я к вам. Пою вот немного и хотел бы…
— Летом приема в кружки нет. Приходите осенью.
— Это как же осенью, — возмутился Оладышкин. — Что за бюрократия?! Товарищ желает вовлечься в культуру. И мы с вами обязаны охватить его, независимо от сезона… — Он ласково взглянул на понурого Глеба и ободряюще сказал: — Значит, к пению испытываешь потребность? Это, брат, исключительно хорошо. Есть потребность петь — пой. Ты не смущайся, как тебя?
— Глеб Карасев. Старатель-сезонник из Москвы.
— Из Москвы! Надо же! Это же исключительно замечательно. Мы тебя и прослушаем сейчас. Товарищ Аксенова может аккомпанировать на инструментах.
Настя спросила, копируя интонации Оладышкина:
— И к какой песне вы «испытываете потребность»?
— Если можно, я спою «Нежность».
Зыбкий вечерний свет лился в распахнутое окошко из палисадника на тусклую крышку пианино, на склоненную голову Насти, на ее лицо, глаза, большие, зеленые, в жарких золотых точечках, выжидающие, снизу вверх смотревшие на Глеба. Он с удивлением подумал: «Неужели не на картинах старых мастеров, а наяву, в жизни, бывают такие теплые, как бы озаренные внутренним светом лица?»
Подошел к пианино, оперся на него рукой и, стараясь не глядеть на Настю, вкладывая в слова всю свою тоску по Лизе, запел:
Опустела без тебя земля.
Как мне несколько часов прожить?
Голос у него был из тех, про которые говорят: «Берет за душу». Пел он искренне, без надрыва и оттого хорошо. Настя с любопытством покосилась на него и повела аккомпанемент мягче, лиричней.
Май Севостьянович сидел, по-старушечьи подперев пухлощекое лицо, светлые глаза влажно поблескивали.
— Эх, до чего же хорошо, жалостно! — восхищенно воскликнул он, когда Глеб закончил песню. — Ты, Глеб, талант! Это очень здорово, что ты пришел к нам. Мы твою способность вылущим, как ядрышко из кедрового ореха. Хочешь, в хор тебя определим, хочешь, подготовим на сольный концерт к седьмому ноября?
— Спасибо, — вяло поблагодарил Глеб, испуганно спрашивая себя: неужели ему придется провести здесь ноябрьские праздники? Неужели Шилов не выпустит его отсюда? Глеб передернул плечами, стряхивая с себя неожиданную и постыдную размягченность, и, снова входя в роль, ускользая от глаз Насти, торопливо сказал:
— Я жить не могу без пения. Заниматься готов каждый день.
— Каждый и станешь, — пообещал Оладышкин. И важно сообщил: — Пойду к себе в кабинет. Надо вести прием персонала по личным вопросам. Да документы подписать. — И величественно зашагал к выходу.
Глеб и Настя, не глядя друг на друга, засмеялись.
— Занятный мужик. Но, кажется, добрый. Без него вы бы меня встретили оглоблей.
— И поделом вору мука.
— Вору? Почему вору?! — пролепетал Глеб, чувствуя, как вдруг перехватило дыхание.
— А то не знаете? Думаете, ваши штучки всем в радость? На пруду, в общежитии. Так вот: голосок у вас такосенький… — Она показала кончик своего мизинца. — Ну, уж так и быть, стану заниматься с вами. А сейчас мне пора домой. Проводите меня и расскажите толком, чего вас занесло в старатели. Только не надо сказок о Джеке Лондоне, Брет Гарте и романтике…
2
Рядом с Агнией Климентьевной уже не было никого, с кем начинала она жизнь. Она, словно бы откуда-то с высоты, рассматривала череду минувших дней, и не разумом, а душою, всем существом своим уверялась, что ей уже за семьдесят пять, храбрись не храбрись, силы на исходе, наступило, может быть, ее последнее лето и пора без лицемерия выводить в себе итог хорошему и дурному.
Все иное вокруг. Даже горы, даже вода в Яруле. И ветер над рекой не тот, что овевал когда-то ее лицо. Еще древние говорили: нельзя дважды войти в одну и ту же реку, нельзя дважды уловить дыхание одного и того же ветра.
Сколько не смотри, не увидишь раскрашенного, как пасхальное яичко, теремка бывшей бодылинской купальни. В гранит и асфальт закованы береговые склоны, по которым так часто спускались к реке и поднимались к бульвару Агния и Аристарх Аксеновы. Не сыскать их следов, и невозможно указать место, где почти шестьдесят лет назад повстречались они в утро, предрешившее все в их судьбе.
Нельзя не заглянуть сюда, на берег Яруля, потом не подойти к бывшему бодылинскому особняку, постоять в молчании перед тяжелыми дверями с бронзовыми накладками, потом на другой конец города, к старому саду, в сторожке которого настигла отца смерть, и дальше — на кладбище, к фамильному склепу Бодылиных…
У старости нет времени на замыслы и дальние цели. Старость смотрит в прошлое и признает единственную власть — власть воспоминаний.
На Тополиной улице, извилистой и горбатой, застроенной одноэтажными деревянными домиками, что цепко лепились к бурым глинистым склонам безлесой сопки, не было ни асфальта, ни изогнутых в поклоне светильников. Раскидистые тополя тянули узловатые, ветки через дощатые заплоты и штакетины палисадников, роняли наземь пушистый цвет, и каждое лето кружила над улицей клейкая тополиная метель.
Зимой до окон вздымались снеговые завалы. Весной на влажные проталины огородов черной тучей опускались грачи. Летом под водостоком бубнили врытые в землю кадушки, а за штакетником полыхали золотые вспышки «солнц». Утро начиналось здесь скрипом коромысел и звоном ведер у водопроводных колонок.
Агния Климентьевна, оказавшись здесь после Ленинграда, не сразу привыкла к этому полусельскому укладу жизни. Но постепенно полюбила и Тополиную улицу, и свой приземистый домик, и радовалась в душе тому, что для всех соседей она вдова местного врача Валерьяна Васильевича Лебедева, а как ее девичья фамилия, была ли она замужем за кем-нибудь еще, касается лишь одной ее. Конечно, в ее годы лучше бы перебраться на прииск к сыну. Все вместе — и душа на месте. Впрочем, для кого лучше? Для внучки Насти? Ведь нельзя не признаться, что между нею и сыном Николаем столько набежало разного, что одному не покориться, а другому не поступиться.
В низком свинцовом небе смыкались лохмотья туч. Воздух уплотнился, и дышать стало трудно, сердце Агнии Климентьевны заходилось частыми толчками.
Агния Климентьевна заставила себя поужинать и уселась перед телевизором, но услыхала стук в дверь.
— Входите. Незаперто, — откликнулась она, не оставляя вязания.
Невысокий черноволосый человек, по ее представлению почти мальчик, учтиво наклонил голову и сказал, приглушая голос:
— Добрый вечер, Агния Климентьевна. Удивительно, что у вас незаперто. Днем, к сожалению, не застал вас, а дело неотложное. Я — инженер Зубцов из бюро технической инвентаризации.
— И что же у вас ко мне за неотложное дело?
Он помедлил с ответом. Старость многолика, чаще всего она жалка, а то и вовсе отталкивающа. Старость Агнии Климентьевны была величественной и красивой. Седые до голубизны, пышные волосы оттеняли гладкость ее лица, и сейчас красивого, живой блеск больших глаз. «Бодылинских, фамильных», как определил Зубцов.
— Возникли некоторые вопросы по вашему домовладению, — сказал Зубцов и окинул взглядом помещение.
— Пожалуйте в залу, — пригласила Агния Климентьевна, как бы намеренно усиливая своими словами впечатление архаичности, исходящее от ее жилища.
Мебель в зале — обеденный стол на резных ножках-колоннах, шкафы, диваны, стулья — тоже была старинной, тяжеловесно добротной. Зубцов с интересом и неожиданным почтением рассматривал основательные, уверенные в непреходящей нужности для хозяев вещи. Люстру с массивными подвесками, мастерски исполненные мрачные таежные и речные пейзажи в потемневших рамах, поясной портрет Климентия Бодылина в переднем углу. «Однако и для тайников здесь вольготно. В ножках стола не только фунтовые золотые слитки, но и освежеванного слона схоронить можно… И в то же время… Не признал ведь Игорь Светов на фотографии Лебедевой свою интеллигентную старушку».