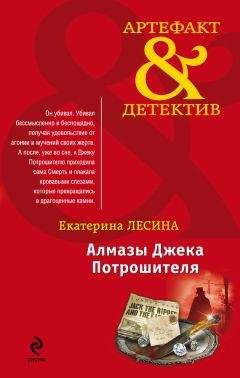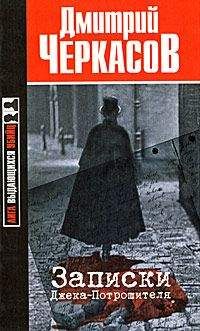– Здесь?
– Да. Где еще мне представится такое разнообразие ран?
– На войне.
Абберлину вдруг вспомнил другие руки. В красной пленке крови, которая не удерживалась на коже, но стекала по пальцам на лезвие скальпеля. Смрад гноя, тухлой крови и паленого жира. Пилу, что впивалась в кость со скрежетом. Вонь костной пыли заглушала все прочие запахи.
– Извините, – очень тихо сказал Джон, поспешно натягивая перчатки. – Кажется, я случайно растревожил ваши раны. Когда-то я собирался отправиться в Индию. Или в Африку. Туда, где мои умения принесли бы пользу, но так уж получилось, что семейные обязательства оказались крепче долга перед страной. Я пойму, если вы сочтете меня трусом.
– Н-нет, – Абберлин заставил себя выдохнуть и вдохнуть. В груди кололо, как если бы в легких осталась шрапнель. – Эт-то мне с-следовало бы извиниться. В-воспоминания д-действительно неприятны.
– У моего коллеги… другом его назвать, пожалуй, не решусь, есть интересная теория. Мы сами плодим наши страхи, запирая неприятные воспоминания в клетке разума. И уже там зверь растет. Становится свиреп. И ломает клетку. Я не знаю, сколько в этом правды…
– Но хотите, чтобы я рассказал?
Почему бы и нет? Он врач. В его операционной стоит та же вонь. Разве что убирают там чаще, чем в медицинской палатке. И собственные руки Джона не раз и не два окрашивались кровью. Случалось ему проводить ампутации? Несомненно. Но это не делает его чудовищем.
И те, другие доктора, спасали жизни. Абберлинову в том числе.
– На войне много ран, Джон. Есть колотые. Есть резаные. Рубленые. Стреляные. Осколки шрапнели… мой товарищ носил под мундиром дедовскую кольчугу. И та его спасала от стрел. Зато пуля кольчугу прорвала, вогнав кольца в плоть. Их долго выковыривали… но не спасли. Кровь стала гнить. Другому, я не знал его имени, но видел, как ему снесли полголовы. А он протянул с две недели, только жаловался, что внутри зудит.
Джон слушал. Он смотрел на собственные руки, и Абберлин был благодарен за избавление от любопытствующего взгляда. Говорилось легко. Слова, как гной, выплескивались из раны. Если повезет, рана начнет зарастать.
– В палатке воняло. Там не было сестер милосердия, но случайные женщины… или мужчины… пациентов привязывали к столу ремнями. Если оставался спирт, то давали выпить. Иногда – морфий, но его всегда было мало. Я долго лежал… мои раны были не такими уж серьезными. Мог подождать. Ждал. С рассвета до ночи. И видел, как режут других. Знаете, чего я боялся, Джон? Не смерти. Но того, что мне отпилят ногу. А когда наступила моя очередь, я стал вырываться и плакать, как ребенок… а они не обращали внимания на слезы. Привязали, и все… теперь понимаю, что и доктора устают. Но тогда… тогда я умолял позволить мне умереть. Так что, Джон, если вам нужны раны для вашей коллекции, то отправляйтесь туда, где воюют.
Сейчас сказать бы кучеру, чтоб остановил коляску. Гнев – удобный предлог для побега. Но ты же знаешь, Абберлин, что нельзя бежать вечно.
И Джон пытается помочь.
Он уже помог, ведь ты способен дышать, и запах паленой кости растворяется в лондонском смоге. Ты с радостью втягиваешь городские дымы, наслаждаясь их горечью, как другие наслаждаются табаком или выпивкой. А твой визави молчит, и его молчание заставляет сожалеть о поспешных злых словах.
– Простите, Джон. Я был слишком резок.
– Отнюдь.
Кеб остановился.
– Скажите, Фредерик, – доктор подал руку, помогая выбраться из коляски, и Абберлин не решился отвергнуть помощь. – Вы не обращались к врачу из-за пережитого тогда страха? Или потому, что считаете себя недостойным избавления? Впрочем, можете не отвечать. Полагаю, для одного дня неприятных воспоминаний хватит. Попробуем исправить ситуацию.
Доктор Джон Уильям жил в небольшом, но весьма уютном особняке, фасад которого был украшен резьбой. Розовый колер, обилие колонн, башенок и зубцов придавали ему сходство с кукольным домиком, который вдруг вырос и обосновался на зеленой лужайке. Вовсю цвели розы, манили ароматом пчел. У самых стен поднимались зеленые кусты гортензий, и старая сирень приветливо качала листьями.
Три ступеньки. Резная дверь. И аккуратный молоток на бронзовой цепи.
Джон открывает дверь, выпуская во двор мелкую собачонку, которая бросается на Абберлина с лаем.
– Фу, Нико! Не обращайте на нее внимания, она совершенно не опасна.
Нико кружилась под ногами, уже умолкнув, но опасаясь отходить от незнакомого человека, на одежде которого прибыло столько новых запахов. Человек наклонился и подхватил Нико. Теплая его ладонь держала крепко, но осторожно. И Нико затихла, прижав уши к голове.
– Простите, миссис Уильям, мне не хотелось бы наступить на нее, – сказал незнакомец, передавая Нико хозяйке. И в тех, знакомых уже руках, Нико осмелела, зарычала и даже оскалилась.
– Мэри, это мистер Абберлин. Моя супруга.
– Весьма рад знакомству.
Он неуклюжий. И еще больной. Но прежде хозяин не приводил больных людей в дом. Хозяйке это не нравится. И руки, которые держат Нико, сжимаются.
– Для меня честь принимать вас в нашем доме, мистер Абберлин, – говорит она, и ровно звучащий голос обманывает людей, но не Нико.
Иногда Нико боится хозяйки. И вот сейчас тоже. Ей хочется назад к тому, другому человеку, который умеет правильно держать маленьких собачек.
– Я много слышала о вас…
И снова ложь. Но Нико молчит.
– У моей матушки была левретка. Они очень умные, – Абберлин смотрит на женщину, которую доктор назвал супругой.
Мэри высока, выше супруга на полголовы, и худощава. Ее кожа бледна. Морщинки в уголках глаз и губ выдают возраст, и Мэри не пытается скрывать его. Простое платье синего ситца, пожалуй, излишне просто. Ей бы пошли другие наряды.
– В таком случае Нико – исключение. У нее на редкость мерзкий характер. И глупа она…
Мэри не отпускает – стряхивает собачонку с рук, и та спешит спрятаться под козеткой. Эта внезапная вспышка злости удивляет Абберлина, но спрашивать о причинах не принято.
Как не принято посещать чужие дома без приглашения.
– К сожалению, – Мэри смотрит на Абберлина, не пытаясь скрыть презрение, – мой супруг вновь опоздал к ужину. И все остыло. Мне распорядиться, чтобы разогрели?
– Конечно, Мэри! Конечно. Порой она меня удивляет… – Последние слова Джон произносит шепотом. Но Мэри слышит его. Она медленно поворачивается и столь же медленно исчезает в полутемном холле.
Изнутри кукольный дом прочно обжит людьми.
Нико выбирается из укрытия и боком, осторожно, подходит к Абберлину. Тоненький хвостик ее дрожит, кончики ушей трясутся, а сгорбленная спинка и вовсе придает левретке жалкий вид.
– Не бойся, – Абберлин поднимает собачонку, хотя нагибаться за нею сложно. Но ощущение живого существа в ладони приятно. Он слышит биение сердца Нико и ощущает жар ее тельца.
– Женщины жестоки. Порой куда более жестоки, чем мужчины. Идемте в кабинет.
– Возможно, мне лучше будет…
– Не лучше, Фредерик. То, что произошло сейчас, не имеет к вам отношения. С другой стороны… я никудышный врач, коль собственную жену исцелить не способен.
Теплый язык вылизывал пальцы.
– Думаю, через несколько минут вы увидите совсем иную Мэри. И поверьте, она стоит того, чтобы с ней познакомиться.
Иногда мне хочется убить жену. Подозреваю, что желание это время от времени возникает у любого мужчины, сколь бы то ни было долго связанного брачными узами. В какой-то миг любовь, если она была, уходит, и остается лишь женщина со скучным лицом. Она исполняет роль со старательностью провинциальной актрисы, но время от времени срывается.
И стрелы обвинений летят в самое сердце.
К счастью, Мэри была не из таких.
Любил ли я ее? Когда-то – несомненно.
Мое сердце теряло привычный ритм при виде ее. В голове возникали те самые благоглупости, являющиеся неотъемлемым симптомом влюбленности, и опьяненный разум рисовал самые радужные перспективы. В редкие минуты просветления я понимал, что истинная наша жизнь будет отличаться от нарисованной мною, но чтобы настолько…
Памятью о нашей свадьбе – сухой букет роз и дагеротип, на котором у меня смешное лицо, а Мэри – серьезна. И свадебный альбом с пожеланиями. Сервиз от тетушки. Серебряные кольца для салфеток – от моих родителей.