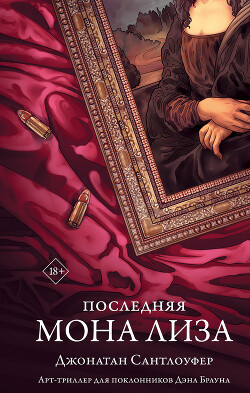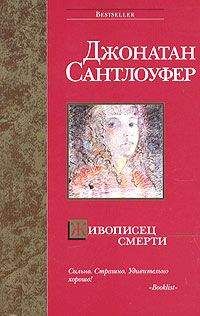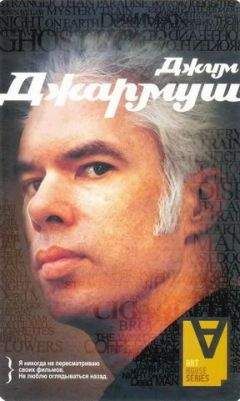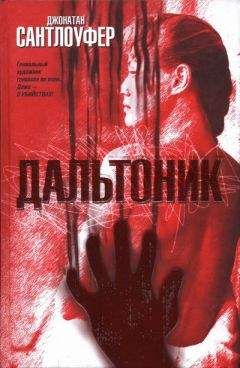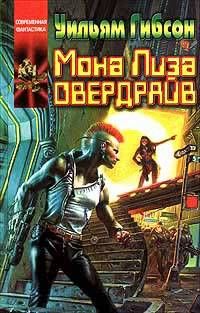она отвернулась и стала рассматривать следующую картину.
– Если бы я верила в Бога, то, глядя на эту картину, усомнилась бы в его существовании.
Это была картина Караваджо «Принесение в жертву Исаака»: Авраам собирается принести в жертву своего единственного сына, его рука прижимает голову мальчика к скале, нож поднят, лицо мальчика перекошено от ужаса.
– Каким садистом должен быть Бог, чтобы заставлять отца убить своего единственного ребенка? Что за отцом надо быть, чтобы это сделать? – произнесла она и встряхнула головой, словно пытаясь избавиться от этой мысли, и я снова почувствовал в ней эту вспышку яростного гнева, совершенно несоразмерную моменту и месту.
– Едва ли кто-либо еще владел кистью так хорошо, как Караваджо, – заметил я, пытаясь вернуть разговор к живописи. Я указал на динамичную композицию Караваджо, на то, как он управлял движением вашего взгляда по холсту, на сочетание красоты и уродства на его картинах, а также нового и старого – того, чего художники пытались достичь на протяжении веков. В этом месте я вновь вспомнил спор Винченцо в студии Пикассо.
Александра взяла меня за руку и потащила вперед, хотя спешить было незачем. Времени у нас было достаточно, я так ей и сказал.
– Я не хочу, чтобы ты обвинял меня, если вдруг не закончишь свой научный труд – о чем бы он ни был, – ответила с оттенком сарказма, на который я решил не обращать внимания.
Стены следующего зала были выкрашены в темно-малиновый цвет, и он, в отличие от предыдущих, был битком забит туристами.
– Опять Караваджо. Он всегда собирает толпу, – заметила Александра.
Мы протиснулись поближе, чтобы рассмотреть его портрет Вакха. Все в этой картине было насыщено чувственностью; юноша на картине был одновременно и мужественным, и женственным.
– Он опередил свое время, – сказал я и добавил несколько ярких подробностей мучительной жизни Караваджо – его бисексуальность, изуродованное в драке лицо, обвинение в убийстве, вынудившее его бежать из Неаполя, и смерть в тридцать восемь лет по невыясненной до конца причине – то ли это была лихорадка, то ли его убили.
– Вау! – воскликнула Александра. – Мои преподаватели по искусствоведению в такие подробности не вдавались. Твои лекции гораздо интереснее.
Я предложил ей посетить мои занятия, когда мы вернемся домой, и тут же испугался, что к тому времени меня могут уже выгнать из преподавателей. Я был рад отвлечься от грустных мыслей на картину Караваджо «Голова Медузы». Картина эта совершенно ужасающая: рот Медузы открыт в испуганном крике, глаза расширены от ужаса, из шеи струями течет кровь.
– Ты знаешь, это автопортрет.
– Да? – удивилась Александра. – Зачем же он нарисовал себя в образе Медузы, да еще с отрубленной головой?
– Не знаю, – ответил я. – Может быть, он так выразил свои размышления о смерти.
Я приблизился к картине, чтобы получше ее рассмотреть, но мне стали мешать блики света на футляре из плексигласа.
– Терпеть не могу эти чертовы коробки, – проворчал я и подумал о Винченцо, делавшем из стекла такие же футляры для защиты самых ценных экспонатов в Лувре.
– У меня от нее мурашки по коже, – сказала Александра. – Эти змеи выглядят как настоящие, они словно действительно извиваются.
Он засмотрелся на металлический блеск змеиной кожи, на отрубленную голову, на алую кровь, хлещущую из отрубленной шеи, на отблеск света в потухающих глазах Медузы. Все на картине такое яркое и настоящее, рука так и тянется потрогать, и если бы не плексигласовый футляр, он бы так и сделал – но стоп, он слишком надолго отвлекся.
Где они?
Он осматривает зал и, наконец, замечает их в противоположном конце у самого выхода. Быстро, но как бы без особой цели, он движется следом, оставляя между ними и собой несколько человек для подстраховки. Они останавливаются у книжного киоска, рассматривают блокноты и карандаши, всякие головоломки и игры – на всех товарах изображения здешних экспонатов. Американец рассматривает чехол для смартфона с изображением той картины, где голая женщина на ракушке. Он показывает чехол блондинке, которая смотрит на него, подняв бровь, а потом смеется.
Почему при виде того, как им хорошо, он так заводится? В его сознании начинает созревать идея, пока еще расплывчатая, как проявляющаяся фотография, без деталей, но когда он ее доработает, она станет такой же яркой и кровавой, как репродукция Медузы, которую он только что присмотрел. Не купить ли ее, кстати? Нет, слишком поздно: Американец и блондинка уже выходят из магазина.
Выйдя из музея, мы оказались в каком-то непонятном внутреннем дворе: это был даже не двор, а некая полуоткрытая площадка с несколькими деревянными скамеечками современного типа, которые выглядели как элемент детской площадки во дворе жилого комплекса. На одной из них отдыхали двое ребятишек, пока их родители сверялись с путеводителями.
– Боже, какой кошмар, – воскликнул я. – Неужели нельзя было разрисовать стену или хотя бы покрыть ее граффити, чтобы здесь был хоть какой-то элемент искусства, для более плавного перехода от Уффици к обыденной жизни?
Александра посмотрела на меня с загадочной улыбкой, потом вдруг потянулась ко мне и крепко поцеловала в губы, успев даже коснуться моего языка своим, прежде чем так же неожиданно отпрянула.
Думаю, что на моем лице были написаны удивление и восторг, но Александра тут же приняла виноватый вид, по-детски закусив нижнюю губу.
– Прости…
– Я не обиделся!
– Я не должна была этого делать… Это все из-за твоей лекции по Артемизии и из-за слов, что здесь должен быть элемент искусства… Забудь об этом.
Мне хотелось сказать, что у меня вряд ли это получится, но я промолчал, хотя улыбка на моем лице, наверное, и без того была достаточно красноречивой.
– Библиотека уже открыта, – заявила Александра. – Тебе нужно идти.
– Хочешь от меня избавиться?
– Нет, – произнесла она уже мягче.
– Отлично, тогда давай пойдем вместе в библиотеку.
– Не могу. Мне нужно… еще кое-что сделать.
– Эй, если это все из-за поцелуя…
– Я не знаю, что это на меня нашло. Давай сделаем вид, что ничего не было?
– Может быть, у тебя и получится… – улыбнулся я.
– Еще увидимся! – крикнула она, сбегая вниз по лестнице, и исчезла так быстро, что я не успел спросить, когда именно.
Александра торопливо спускалась по ступенькам. О чем она только думала, бросившись его целовать?
Ясное дело, вообще не думала. Или все-таки осталось еще что-то в голове?
Она приложила палец к губам, как будто все еще чувствовала там этот поцелуй.
Но это все-таки смешно. Это перебор. Слишком быстро.