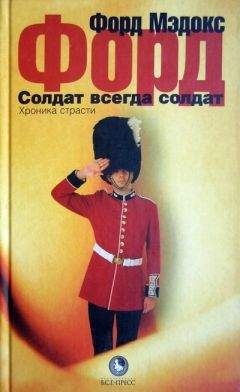— О Господи, — выдохнула Жанночка, — подожди, не выбрасывай.
— Что, тоже следователю показать? В мешочек положить как улику? — нервно усмехнулась Катя.
— А ты уверена, что это не твой? — осторожно спросила Жанночка.
— Я такие в жизни не носила, к тому же он размера на два больше… — Катя встала, открыла шкаф под раковиной, бросила находку в помойное ведро и отправилась в ванную, мыть руки.
— На тебе халат Глеба, — прошептала Жанночка ей вслед.
— Крестовская! Выйди из класса! И чтобы завтра с родителями!
— А в чем дело? — Маргоша смерила учительницу математики надменным насмешливым взглядом.
— Вон, я сказала! — Голос учительницы сорвался до визга.
Маргоша повела плечами, не спеша поднялась и очень медленно, плавной походкой манекенщицы направилась к двери. Класс молчал. Математичка провожала худенькую длинноногую девочку в слишком короткой форме, со слишком красивыми огненно-рыжими волосами ненавидящим взглядом.
Маргоша небрежно толкнула дверь ногой. Она старалась ничего не задеть руками. Тонкие пальцы были напряженно растопырены. На длинных ногтях еще не высох свежий бледно-розовый лак. Остановившись в проеме двери, она оглянулась, сверкнула яркой зеленью глаз и громко, нараспев произнесла:
— «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Пушкин. «Евгений Онегин».
Соседка по парте Оля Гуськова, опомнившись, быстро завинтила бутылочку дешевого польского лака, спрятала в карман своего черного фартука. Сама она ногтей никогда не красила и об их красе не думала. Она знала, что Маргоша стащила лак у своей матери. Если сейчас математичка отнимет бутылочку, то Маргоше потом ужасно попадет. А так — она потихоньку положит на место, и все обойдется. Маргошина мать ничего не узнает. А в школу придет отец. Он тихий и Маргошу никогда не ругает.
Дверь сильно хлопнула. Маргоша изящно лягнула ее ногой снаружи. Математичка про лак забыла. Несколько секунд она стояла с открытым ртом. Лицо ее медленно багровело. Она забыла не только про лак, но и про урок, про класс, который замер и жадно ждал, что будет дальше.
А дальше учительница бросилась вслед за четырнадцатилетней нахалкой, догнала ее, схватила за бретельку фартука и потащила к директору. Дешевая рыхлая ткань треснула, бретелька с мясом оторвалась от пояска. — Интересно, кто будет платить за испорченную школьную форму? — задумчиво, как бы размышляя вслух, произнесла Маргоша.
Директор, молодой, но уже лысеющий мужчина, долго успокаивал пыхтящую учительницу, налил воды из графина. Она пила жадно, и золотые зубы постукивали о тонкий край стакана.
Директор был человеком новой формации, в школу пришел недавно, долго задерживаться не собирался. Он не одобрял старые варварские методы воспитания и постоянно конфликтовал с учительским коллективом.
— Она ведет себя вызывающе! — кричала шестидесятилетняя математичка. — Она срывает уроки! Красит ногти не стесняясь, когда я объясняю новый материал! Она красит ресницы в четырнадцать лет! Она развращает других!
— Ресницы я не крашу. У меня они от природы такие, — спокойно произнесла Маргоша, — и никого я не развращаю. Просто вы, Зинаида Дмитриевна, плохо относитесь к девочкам. Особенно к красивым. Да, нехорошо красить ногти на уроке. В этом я с вами согласна, вину свою признаю полностью. Извините. Но в остальном вы не правы.
— Замолчи, дрянь такая! Выйди вон! — Учительница крикнула так громко, что сорвала голос, хрипло закашлялась.
— Да, Крестовская, — поморщился директор, — выйди и подожди в коридоре.
— Таких надо гнать из школы! — сипло зашептала учительница, когда за девочкой закрылась дверь. — Совсем распустились! Озверели! Никакого уважения.
— Ну, уважение надо заслужить, — медленно проговорил директор, — и нельзя так кричать на детей. Да, девочка ведет себя несколько вызывающе, но вы сами провоцируете, унижаете ее. У них сейчас сложный переходный возраст, нельзя об этом забывать. Вам, кстати, сколько до пенсии осталось?
Учительница опять покраснела, потом побледнела. Ей нисколько не осталось до пенсии, уже пора было. А на пенсию разве проживешь? И школа эта в двух шагах от дома. О Господи, что за времена!
Времена действительно наступили странные, непонятные. Шел 1988 год. Двум девочкам, Маргарите Крестовской и Ольге Гуськовой было по четырнадцать лет. С первого класса они сидели за одной партой.
Дотошвили Нодар Ираклиевич по повестке в прокуратуру не явился. Все его телефоны упорно молчали. В квартире было пусто.
— Что же он самого себя гробит? — Следователь Евгений Николаевич Чернов тяжело вздохнул и взглянул на часы. Свидетельница Рыкова Елена Федоровна, то бишь стриптизерка Ляля, должна была явиться на допрос через десять минут.
— Ну что, Князя в розыск объявляем? — спросил майор Кузьменко. — Или погодим пока?
— Пожалуй, погодим. Посмотрим, что Ляля скажет.
Ляля явилась минута в минуту. На ней был строгий костюм, прямая юбка до колен, пиджак. И косметики в меру, и волосы скромно зачесаны назад, собраны в хвост. В общем, серьезная деловая дама. Никаких излишеств, ни капли кокетства.
— Когда в последний раз вы видели Нодара Дотошвили? — спросил Чернов.
— Два дня назад, — лаконично и честно ответила Ляля.
— Где и при каких обстоятельствах?
— У меня дома.
— Он был с вами всю ночь?
— Точно сказать не могу. Я спала очень крепко.
Ляля совершенно не волновалась. Она отвечала на вопросы спокойно и уверенно, словно отличница, готовая к экзамену. Но при этом старалась говорить как можно меньше. Опасалась ляпнуть лишнее.
— В котором часу вы легли спать?
— Около одиннадцати.
— Дотошвили был с вами?
— Да.
— А утром?
— Я проснулась в половине десятого. Нодара уже не было.
— Значит, в последний раз вы видели гражданина Дотошвили в одиннадцать вечера?
— Да.
— И ручаться за то, что он оставался в вашей квартире всю ночь, вы не можете?
— Нет.
— То есть Дотошвили мог покинуть вашу квартиру в любое время после одиннадцати вечера, и вы ничего не заметили, не услышали?
— Я очень крепко сплю. Можно десять раз уйти и вернуться, я не услышу, — сказала Ляля, спокойно и внимательно глядя следователю Чернову в глаза.
— Дотошвили играл в казино?
— Да.
— И как, везло ему в игре?
— Ну, не знаю, как всем… То везло, то нет.
— Он проигрывал большие суммы?
— Не знаю. Мне он об этом не докладывал.
— Хорошо, — кивнул Чернов, — вы достаточно близко знакомы с Дотошвили. Как вам кажется, он азартный человек?
— Как все, — ответила Ляля, продолжая глядеть Чернову в глаза.
— Что значит — как все? Есть люди, которые вообще не играют в азартные игры, а есть такие, которые жить без этого не могут. Некоторые приходят в казино, долго не играют, наблюдают со стороны, а потом заводятся постепенно и просаживают целые состояния. Вы читали роман Достоевского «Игрок»?
— Достоевского? — удивленно переспросила Ляля. — А при чем здесь Достоевский?
— Действительно, ни при чем. Так, к слову пришлось… — улыбнулся Чернов. — Значит вам не известно, какие суммы проигрывал ваш друг Нодар Дотошвили в казино «Звездный дождь», в котором вы работаете?
— Так я ведь работаю не в игорном зале.
Когда свидетельница ушла, Чернов откинулся на спинку стула и уставился на майора Кузьменко. Иван сосредоточенно разрисовывал фломастером сигаретную пачку.
— Значит, они решили свалить убийство на Князя, — задумчиво произнес он, не поднимая глаз от черных кружочков и закорючек, которыми покрывалась белая пачка «Кента». — Они хотят сдать нам Дотошвили и засветить Голубя. Слушай, а не сам ли Лунек распорядился кончить Калашникова? Предположим, казинщик стал скрывать от своей родной «крыши» часть доходов. Пожадничал, с кем не бывает? Лунек узнал и обиделся. А тут, очень кстати, подвернулся Голбидзе со своим наездом и дураком Князем.
Чернов покачал головой:
— Лунек кинул нам версию с Дотошвили как кость, чтобы мы грызли и никуда больше не лезли. И заметь, не самого Дотошвили, а только версию. Князя они сейчас выкручивают, как тряпку, где-нибудь на укромной даче под Москвой, в сыром подвале. Мы потом найдем труп. Это я тебе гарантирую. Там будет либо несчастный случай, либо суицид.
Егор Николаевич Баринов с детства не любил признаваться в своих болезнях даже самому себе. Отменным физическим здоровьем он гордился как одним из главных своих достоинств. А болезнь — любую, даже самую обычную, безобидную — считал чем-то стыдным и унизительным.
Впервые он по-настоящему понял, что значит болеть, когда восемь лет назад его скрутил жесточайший остеохондроз. Сначала он не придавал значения ломоте в спине. Ну, мало ли, продуло, нерв застудил. Но, когда позвоночник стал ныть нестерпимо и уже невозможно было прыгать на теннисном корте, скакать верхом и даже просто вертеть головой, он принялся спрашивать у приятелей и знакомых, нет ли у кого хорошего массажиста.