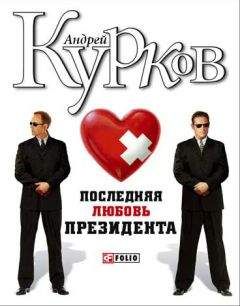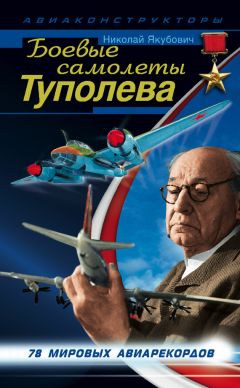– Ты когда-нибудь женишься? – спросил я.
– Я женат. У меня двое взрослых детей. Но это всего лишь «семейное положение».
Я был польщен. Светлов бы этого не понял. Но то, что он говорил со мной как равный, меня не просто успокаивало, а уравнивало с людьми, твердо уверенными в правоте своих взглядов, симпатий и мыслей. В себе я в эту ночь и наступавшее утро уверен не был. Я прятался за тонированным стеклом автомобиля. Я был инкогнито. Я избегал красивой незнакомости жизни.
Киев. 27 февраля 1985 года.
Морозный ветер обжигал лицо, и я уже не знал, как и чем от него защититься. Шапка-ушанка из крашеного кролика была надвинута на брови, ее уши я давно завязал под подбородком. Шею замотал мохеровым колючим шарфом и воротник на овчинном кожухе поднял. Но теплее мне не становилось. Труханов остров, к которому я приближался по пешеходному мосту, словно отталкивал меня, пытался остановить. Но я думал о старике, о том, что он там один в своей землянке, о том, что у него могли кончиться дрова. Я, конечно, никаких дров ему не нес. В спортивной сумке, болтавшейся на плече, лежала кое-какая еда и две бутылки портвейна. Сумка была увесистая, но морозный ветер легко приподнимал ее, толкал за спину.
Еду старику купила Мира, и именно она попросила меня к нему сходить. Сама идти отказалась, и теперь я ее очень хорошо понимал. Но я был упрямее этого морозного ветра, и чем больше он сопротивлялся мне, тем больше я сопротивлялся ему.
Потом мои сапоги вязли в глубоком снегу, но и это меня не останавливало.
Ранние зимние сумерки сгущались. Небо наклонялось все ниже и ниже. Нависало, как пьяный богатырь, не способный больше стоять на ногах. И рухнуло оно всей своей темнотой быстро, в считаные минуты. Но я уже видел землянку старика, я видел за ее маленьким окошком огонек свечи.
– Ну ты прям как Павлик Морозов! – радостным возгласом встретил меня старик.
– Чего? – удивился я. – Он же отца предал!
– Ну тогда не Морозов, а Володя Дубинин. Герой, одним словом! В такую непогодь сюда пришел!.. Я тебя отблагодарю!
Он полез в тумбочку, достал початую бутылку «Московской».
Я тем временем выложил из сумки продукты и свой портвейн.
– Барство какое! – развел руками Давид Исаакович. – Что за повод, молодой человек? Вы женитесь?
– Нет, это Мира передала!
– Хорошая у меня дочка!
Я кивнул, вспоминая Оперный театр.
– Хорошая, – повторил он. – Но лучше ты на ней не женись!
– Почему?
– Потолстеешь, станешь ленивым и в лучшем случае выбьешься в средние портные! Она вся в маму. Ей не понятно, что у мужчины душа всегда в полете! Женщина – аэродром, мужчина – планер. Она должна его ждать, но не должна запрещать летать. Понимаешь?
– Да. И куда вы летали? – поинтересовался я.
– Это я образно. Я летал к другим женщинам. Не одной ей хочется счастья! А впрочем, нет, ты послушай! – И он внезапно замолчал, подняв на уровень моих глаз указательный палец.
За окошком завывала настоящая метель.
– Вот, – многозначительно выдохнул старик. – Это и есть самая нелетная погода! Время укрепления семьи перед весной. Но это все так, прошлое. Приходит время других ценностей, и тогда уже ищешь не красоток с накрученными на бигуди кудряшками, а однодумцев, соратников. Знаешь, через пару дней ко мне придут друзья. И ты приходи! Узнаешь, что не обо всем пишет газета «Правда». Есть и другая жизнь!
Киев. Март 2004 года.
Я два дня готовился к этому разговору. К разговору друг о друге. При этом никаких вопросов у меня к Свете не имелось. Зато два дня представлял я себе, какие вопросы она может задать мне. О моей жизни, о моих мыслях, о моих родственниках и друзьях. Я задавал их себе от ее имени и медленно подбирал ответы, определяя, насколько полными и правдивыми они должны быть. Нет, я не собирался врать – смешно человеку в моем возрасте и при моем статусе сочинять новые версии вместо старых. Но так же было смешно и мое волнительное ожидание сегодняшнего вечера.
Эти размышления отвлекали от службы, и, чтобы не натворить каких-нибудь глупостей, я попросил Нилочку перенести назначенные встречи с нашими «белыми» и «серыми» бизнесменами на следующую неделю. А под конец рабочего дня я попросил секретаршу сварить две чашки кофе и составить мне компанию.
Она залетела еще более воздушной походкой, чем обычно. Мы уселись за приставной столик для посетителей друг против друга.
Одетая в строгого покроя, но игривой зеленоватой расцветки костюмчик, состоявший из обтягивающей юбочки до колен и приталенного жакетика, под которым виднелась беленькая блузка, Нила была похожа на неуверенную в себе начинающую актрису. Хотя в «неуверенность в себе» она явно играла. Иначе не смогла бы она так легко, с очаровательной улыбкой накрашенных розовой помадой губок отправлять подальше тех посетителей, которых я не хотел видеть.
– Ой, я забыла сахар! – воскликнула она, глядя на свою чашку.
Вскочила легко, почти беззвучно. Выбежала.
– Вам же одну? – Ее рука с ложечкой сахара зависла над моей чашкой.
– Чуть-чуть меньше, – сказал я.
Она струсила верхушку сахарной горки обратно в сахарницу. Остальное опустила в мой кофе и размешала.
– Как ты думаешь, что можно подарить красивой женщине? – спросил я.
Нилочка задумалась, затаив на личике улыбку.
– У вас с ней близкие отношения?
Странно, но я не услышал в этом вопросе попытки вмешиваться в мою личную жизнь.
– Да.
– А коньяк у вас есть?
– Она не пьет коньяк.
– Нет, не для нее, – смутилась Нила. – Сейчас, к кофе. У меня есть, но обычный…
Я достал бутылку «Хэннесси» и коньячные бокалы. Налил.
Нила пригубила. Посмотрела на часы.
– Вы ведь сегодня никого больше не ждете?
– Ты же всех перенесла?
– Да, конечно. Как вы сказали! Я сейчас.
Она опять вышла.
Я чередовал вкус коньяка со вкусом кофе. Думал о Светлане. Вокруг разливалась непривычная для министерства тишина. И я забыл, что нахожусь на службе, на скучной службе, смысл которой заключался в придании бумагам различной скорости. Словно в компьютерной игре я какие-то бумаги двигал, и они попадали, как бильярдные шары в лузу, на последнюю утвердительную подпись моему шефу, другие «случайно» терялись, «исходили» навсегда, но в неизвестном направлении. Найти их было невозможно. Да их и не искали. Эта служба была тоскливой и выгодной. Мне хорошо оплачивали мою тоску по настоящей жизни.
Нила снова появилась в кабинете. Я только заметил, что с ее ножек исчезли колготки.
– Лучший подарок любимой женщине – это белье, – прошептала она.
Потом игриво обернулась, словно проверяя, нет ли случайных свидетелей, и сбросила свой костюмчик, оставшись в действительно красивом белье красного цвета. Это белье делало ее удивительно соблазнительной. Я схватился за свой коньячный бокал, как за спасительный круг.
Она повернулась боком, изогнулась, откинув свои недлинные каштановые волосы назад. Потом повернулась ко мне спиной и нагнулась, коснулась кончиками пальцев пола. Снова повернулась лицом ко мне.
– Красивое? – Она спросила, показывая взглядом на свои трусики.
– Да, – выдохнул я негромко и оглянулся по сторонам. – Ты хоть дверь закрыла?
– Конечно, – прошептала она. – Я хотела вам кое-что рассказать.
– Рассказывай!
– Меня о вас расспрашивали…
– Кто?
– Догмазов с еще двумя.
– И что же их интересовало?
– Не приходят ли к вам женщины, не закрываетесь ли вы с кем-нибудь тут, не много ли пьете. Какие у вас привычки, какие журналы читаете, с кем просите не соединять, кого принимаете без предварительной записи. Я думаю, вы скоро отсюда уйдете.
– Ты думаешь?
Она кивнула, и на ее личике нарисовалось искреннее беспокойство.
– Я боюсь, что они под вас копают.
– А почему ты боишься?
– Мне с вами хорошо. Вы вежливый, никогда не кричите. Не заставляете ничего такого делать.
– А другие заставляют?
– Иван Семенович, который перед вами был, заставлял. Почти каждый вечер.
Мне вдруг стало жаль Нилу. Она такая хрупкая, беззащитная в этих красных трусиках и лифчике. Почему она разделась? Ах да, я спросил о подарке для любимой женщины.
– Можно мне еще коньяка?
Я налил ей. Она присела за стол. В ее зеленых глазках заблестели слезы.
– Что с тобой? – Моя рука потянулась к ее голове. Я погладил ее по волосам.
– Вот вы ей подарите красивое белье, – всхлипывая, сказала она, коньячный бокал дрожал в ее руке, – а я себе сама покупаю. Вы знаете, какая у меня зарплата?
Я отрицательно мотнул головой. Меня не интересовали чужие зарплаты.
– Двести гривень.
– Что? – вырвалось у меня. – И ты живешь на двести гривень?