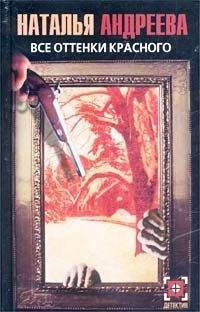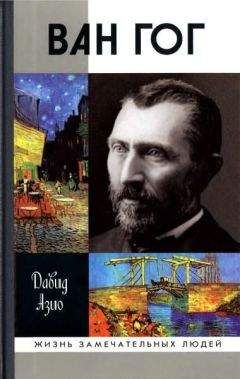— Майя?
— Да?
— Ведь тебя Майей зовут?
— Откуда вы знаете?
Она чувствует облегчение: наконец-то!
— Эдик сказал. Он встретился в поезде с настоящей Марусей Кирсановой.
— Я знаю. Она забыла в поезде сумочку с письмами, а у меня на вокзале украли все документы. Вот Нелли Робертовна и подумала, что я — это Маруся. Мне сейчас уже вещи собирать?
— Куда же ты пойдешь?
— Если дадите денег на билет, поеду домой.
— Я как-то… Не могу прийти в себя. Зачем же было врать?
— Я боялась, что вы за лечение не заплатите. А у моих родителей денег нет. И мама больше никогда не пустила бы меня в Москву, если бы все узнала.
— Далась тебе эта Москва!
— Вы не понимаете. Только здесь и есть настоящая жизнь. Здесь все: театры, университеты, музеи, выставки. Здесь Красная Площадь, Александровский сад, Третьяковская галерея. Когда едешь в поезде, кажется, что он уносит тебя не куда-нибудь, а в сказку. Я виновата. Не подумала. Сама не ожидала, что могу жить в чужой семье и откликаться на чужое имя. Хотя мама всегда называла меня Марусей.
— Майя, мы пока никому ничего не скажем. До завтра. А завтра я что-нибудь придумаю. В конце концов, тебя сбила наша машина, и Миша виноват.
— Это я виновата, я! Дуреха, растяпа. И врушка к тому же.
— Майя, а как же портрет?
— На портрете моя мама. Это правда.
— Не понимаю. А кто же мать Марии Кирсановой? Что, у отца в том провинциальном городе был не один роман, а два?
— Не знаю. Мама никогда ничего не рассказывала.
— Послушай, а ты не знаешь, где сейчас настоящая Маруся Кирсанова?
— Не знаю. Они сдернули стоп-кран и сошли с поезда. Эдик и Маруся.
— Какой мерзавец! Ну, ничего, я найду на него управу! Пусть даже придется опозориться. Ты отдыхай и пока никому ничего не говори. Сиди в своей комнате.
— Спасибо вам. Вы хороший.
— Да и ты славная девушка. Надо было с самого начала рассказать все Нелли. Она не злодейка, не оставила бы тебя без помощи.
— Я все равно бы призналась. Не выдержала бы. Хотелось только немного подлечиться.
— Отдыхай.
Он вышел из комнаты, с облегчением вздохнув. Все-таки, славная девушка, жаль, что она не Маруся Кирсанова. Надо как-то осторожно поговорить с Нелли, ведь она добрая, все поймет. А вот остальные… Собственно, из-за них придется молчать до завтра. Вера Федоровна и мать способны устроить скандал. Что уж говорить о Наталье! Георгий Эдуардович поморщился — да, тут без поддержки Нелли не обойтись. Потом вспомнил о старшем сыне и содрогнулся. Если Эдик успеет обработать Марию Кирсанову, и этому дому, и покою в нем придет конец. Будет скандальный раздел наследства, будут бесконечные суды, ссоры, а как же новая любовь? Как же женщина, которую он рассчитывает ввести в семью? Разве она выдержит все это? Наконец-то встретилось доброе, чистое создание, разделяющее его идеал скромного существования в уединении, в работе над новой книгой, на этот раз, действительно, великой. Господи, дай силы! Как все запуталось! Отец, зачем ты все это сделал?…
…— Ты все поняла, мама?
— Эдик, но как же так?
— А вот так. Он, похоже, все знает.
— Что ж будет?
— Не знаю. Ты пока попробуй все это переварить, а мне надо позвонить. Кто-то должен позаботиться о моем будущем, раз так все обернулось.
Он не решился воспользоваться одним из телефонов в доме. От этих дам всего можно ожидать, слишком уж любопытные. А свидетели ему сейчас не нужны, и вообще никто не должен знать, кому и куда он звонит. Черт, что ж она так долго не берет трубку!
…— Алло?
— Маша? Привет.
— Эдик? Классно, а?
— Как ты там? Что делаешь?
— Скуча-а-ю.
— Займись чем-нибудь.
— Можно я схожу в магазин?
— Зачем? В доме полно еды.
— Я куплю краски. Ну и чего там еще положено.
Краски! Как же он об этом не подумал! О наркотиках подумал, а о том, что можно было бы поступить гораздо проще и загрузить ее работой, не догадался. Она бы сидела целыми днями дома и писала, писала, писала… Художница, как же! Талант.
— Послушай, Маша, ты заблудишься.
— Язык до Киева доведет, корнет. На свете полно симпатичных мужиков, которые с радостью укажут мне дорогу. Сомневаешься?
— Нисколько.
Зачем он оставил ей ключ? Дурак!
— Корнет, ты чего такой? Злой, да?
— Да тут возникли некоторые проблемы. Я должен задержаться и ночевать не приеду.
— Как? Мы еще не поженились, а ты уже не приходишь домой ночевать?
— Дела, Милая, дела. Между прочим, не столько мои, сколько твои. Так что постарайся меня дождаться.
— Не бойся, не убегу. Если, конечно, не встретится мужик покруче, чем ты. Но это вряд ли.
Надо было все-таки посадить ее на наркотики!
— Маша, я завтра буду. Целую. Я позвоню еще.
— Проверяешь? Ту ти, ту-ту-ту. Пока, корнет!
Гудки. Чертова девица! Если бы на ее месте была эта Майя, все было бы гораздо проще. Та просто в рот смотрит, как очарованный кролик. И хорошенькая к тому же. Не такая броская, как Маруся, но зато на любителя, просто цветочек. А может?… Тьфу ты! Какая глупая мысль! Если бы можно было навсегда оставить ее Марией Кирсановой! Но ведь есть же ее родители и Алевтина Кирсанова. Родители! Отец вполне может вызвонить мать Маруси и та кинется искать свою блудную дочь. Ну и что? Пусть ищет. Ладно, утро вечера мудренее, что-нибудь да придумается.
— Эдик!
Нашла все-таки! Он спрятался в саду, чтобы никто не слышал, как он разговаривает по мобильному телефону с настоящей Марусей, а Настя все-таки выследила.
— Привет, — кисло сказал он.
— Здоровались уже. Эдик, как же так?
— А что случилось?
— Ты не звонишь, не объявляешься, а в твоей квартире снимает трубку какая-то девица. Разве ничего не случилось?
— Видишь ли, Настя, у меня проблемы.
— Проблемы? Но почему, как раньше, не рассказать все мне?
— А чем ты можешь помочь? Денег достанешь?
— У меня нет своих денег, — потерянным голосом говорит девушка. — Я раньше думала, что тетя… Я с ней поговорю.
— Поговори, поговори.
— Эдик, ты не хочешь со мной погулять по саду?
— Знаешь, я устал. Не выспался и вообще.
— Ты какой-то…
— А если меня завтра убьют?
— Убьют?!
— Я должен кучу денег, у матери больше ничего нет, а отец… лучше бы его не было, такого отца!
— Все так серьезно?
— Более чем. Поэтому оставь меня в покое.
— Эдик, но я же люблю тебя!
— По крайней мере, хоть кто-то придет поплакать на мою могилу.
— Эдик!
— Ну, что еще?
— Я все сделаю. Я что-нибудь придумаю.
— Что ты можешь придумать?
— Я… я… я…
— Настя, не надо. Я женился бы на тебе, честное слово, но…
— Сколько тебе нужно?
— Чем больше, тем лучше. Хотя бы несколько тысяч долларов. Пять, десять.
— Пять или десять? А сроки?
— Сроки кончились. Можно продлить их только под получение наследства.
— Наследство, наследство. Эдуард Олегович дурно поступил с тетей. Как же теперь?
— А никак. Пойду, прилягу. Мне надо подумать о своих проблемах.
Ушел. Как же быть? Так ждала, так ждала, а он холоден, словно бы ничего и не было: обещаний, жарких поцелуев, красивых слов, которые он говорит, словно плетет тончайшие кружева, и узоры эти можно хранить в памяти бесконечно и любоваться ими бесконечно. Никогда больше не будет такого, как Эдик, и вообще больше не будет никого. Кто она такая? Некрасивая, а теперь еще и небогатая наследница. Что тетины деньги? Их мало, слишком мало для такого, как Эдик. Он привык к роскошной жизни. Еще бы! Должно быть, ни одна женщина готова отдать все свои деньги, чтобы только оставался рядом, говорил, что любит, пусть даже это заведомая ложь.
— Настя! Погоди. Куда ты так спешишь?
Шофер Миша тут как тут, глаза у него, словно у теленка, которого ведут на бойню.
— Дай пройти.
— Опять он! Да не женится он никогда на тебе, не женится! Зуб даю, что не женится! Выходи за меня.
— Нет.
— Почему?
— Не хочу. Дай пройти.
— Почему не хочешь? Из простых, да? Образования нет, да? Хочешь, все будет? Образование, деньги, дом свой.
— Не говори глупостей. Тебе неоткуда все это взять, как будто я не понимаю.
— А по-простому нельзя? У меня квартира есть. Будем жить, я работать пойду. Водителем автобуса -могу, им, говорят, хорошо сейчас платят.
— Сколько?
— Ну, тысяч десять — двенадцать. Может, и больше.
— Рублей?
— Какая ты.
— Такая. Дай пройти.
— Ну не вечно же будет такая жизнь! Мне Ольга Сергеевна говорила, будто все скоро изменится. Будто в доме будет новая хозяйка.
— Будет. Маруся.
— Да не Маруся, в том-то и дело.
— Что-что?
— Что слышала.
— Ты что-то знаешь?
— Знаю, не знаю, тебе какая разница? — усмехается Миша. Глаза у него темно-карие, как у Эдика, только нет в них ни обволакивающей ласки, ни печали, от которой сердце так сладко замирает, что хочется из кожи вон выпрыгнуть, и голенькой, беззащитной, обжигаясь до боли, пройтись по матушке-земле.