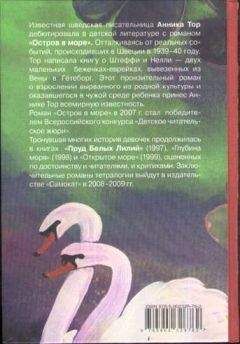Баба оказалась жива. И не баба, собственно, а сопливая девчонка, худая и испуганная.
– Ты чего под колеса кидаешься? – грозно вопросил ее незадачливый водитель. – Жить надоело, твою мать? Цела? Вставай давай и вали отсюда!
Мысленно он уже подсчитал, сколько денег в бумажнике. Если она руку там или ногу сломала – довезет ее до травмпункта, сунет баксов сто-двести и пока! Главное, чтобы шума не поднимала и ментов не привлекала.
Но девчонка только мотала головой. Витька был парень не злой, но тут он взбеленился.
– Чего мотаешь? Сказать не можешь? Язык прикусила?
Он за плечи поднял девчонку с асфальта и замер, глядя в распахнутые ее глаза. Так, должно быть, смотрит человек на свою смерть. Витьку Сотникова проняло.
– Да ты че? Да не смотри так, не съем я тебя. Руки-ноги целы?
– Увезите меня отсюда, – спокойно сказала девушка. – Меня хотят убить. Они меня убьют, если найдут. И вас убьют тоже.
Сдержанный тон, который не просил, а приказывал, показался Витьку убедительнее всякого крика. Он больше не стал расспрашивать, а распахнул заднюю дверцу и запихнул девчонку на сиденье. Она не села, а сразу легла. Легла ничком на сиденье, словно боялась, что ее увидят. Или совсем обессилела? И Витька ударил по газам.
Сашей Эрберг становился только в присутствии Марка Краснова, а во все остальное время и для всех прочих он был Александром Моисеевичем, или господином Эрбергом, или просто Моисеичем, если вдруг решал облагодетельствовать кого-нибудь, или, для подчиненных, переводящих дух в курилке после разговора с начальником, злобной Моськой. Моськой, которая никогда не позволяла себе тявкать на слона, зато больно кусала всех прочих, кто поменьше и послабее.
Но последнюю неделю начальник лютовал, как никогда. Словно пытался отыграться на сотрудниках за какие-то собственные промахи. Даже парфюмеру Петечке Могилевскому, работавшему, кстати, в том числе и над индивидуальными духами «Кира», досталось на орехи. Надо заметить, совершенно необоснованно. Моська чуть не загрызла бедного Петечку, всеобщего любимца, на глазах потрясенного коллектива.
Петечка потом плакал в туалете, вытирал слезы грязным кружевным платочком, размазывая тушь по лицу, и всхлипывал: «У-у-у, толстая харя! Погоди, найдется и на твою поганую лысину управа. Сам нюхало распустил, у самого яйца перепелиные! Я все Марку Дмитриевичу расскажу, все!» К слову, до Краснова доходили кой-какие слухи о крутых методах управления в «МАРКЕ», дочерней компании «Миноса», но он никогда не проверял их, безоговорочно доверяя своему другу… И Петечка Марку Дмитриевичу не пожаловался, как грозился. Потому что до бога высоко, до Краснова далеко, а с Моськой приходится каждый день общаться.
Ярость Эрберга мало-помалу стихала. Чтобы окончательно успокоиться, он, как всегда в подобных случаях, поехал покататься… И вот уже свет разрозненных фонарей превращается в одну иллюминирующую линию, а от бесконечной череды рекламных щитов остается лишь ненавязчивое, приятное для глаза сияние. Как и незаслуженно обиженный Петечка, Эрберг думал о Марке. Да только вот не защитника видел он в нем, а соперника.
«Легко ему – с детства на всем готовеньком. Марк – отличник, Марк – Марк Твен, Марк – умница… Тьфу! И в школе, конечно, именно его считали за лидера. Еще бы. Мама – актриса, папенька – известный ученый. Думать тошно! И в шахматы меня вечно обыгрывал, хоть бы раз проиграл, для смеха!.. Нет, он должен быть первым – во всем. Всю жизнь на готовеньком. Не бился он даже в студенчестве, чтобы выкупить из ломбарда единственный костюм, не мучился из-за неказистой внешности, из-за дурацкой семьи, из-за глупой профессии, переходящей по наследству! И сейчас – ты такой важный, такой самоуверенный, обожравшийся болван, находящий время говорить о звездах! А я трясусь, а я дергаюсь, места себе не нахожу! Ну ничего, у нас в запасе вариант имеется. Только бы найти, да еще выяснить, кто посмел…»
Раздумья Александра Моисеевича прервала голосующая девушка. Он позволил вволю повизжать тормозам и с любопытством посмотрел на гипотетическую попутчицу. «Одна. Так поздно. В безлюдном, в общем-то, месте. Не проститутка. Но почему здесь? Неужели работает дикарем, в одиночку? И не боится ведь!..»
Эрберг, как он это ловко умел, выразительно кивнул головой: садись, мол, рядом. Девушка села, не говоря ни слова. По ее дыханию и глазам чувствовалось, что она долго плакала. Плечи все еще иногда вздрагивали. Наконец, Эрберг прервал пантомиму:
– Куда вам? – спросил он. – И почему вы плакали?
– Мне все равно, куда. А плакать… не…стану… боль…ше…
Вопреки словам, она зарыдала.
– Я вам чем-нибудь могу помочь?
– Нет, н-н-нет, – с трудом выговорила девушка, пытаясь справиться с подступающими к горлу спазмами.
– А знаешь, поехали со мной, в кабак. – Чутье подсказало Эрбергу, что пора переходить на «ты». – Поехали. Местечко я знаю одно – супер! Можно будет рассказать друг дружке о гор-ре. Каждый расскажет о своем. Глядишь, и отляжет.
Девушка улыбнулась – вот уж действительно сквозь слезы.
– Как вы смешно произнесли. Я ведь совсем вас не знаю. Я, оказывается, вообще ничего не знаю…
– Вот и узнаешь! Я… – тут Эрберг несколько секунд помедлил, все-таки решив назвать свое настоящее имя… – Саша. А ты…
– Наташа.
– Ну и славненько. Саша и Наташа! А грассировать я принимаюсь, когда чувствую, что говор-рю с очень хорошим человеком, с близкой душой, понимаешь?
Наташа понимала.
«Симпатичная, – решил Эрберг. – Домашняя. Вряд ли проститутка. Впрочем, хоть бы и так. Мне-то что?»
Иногда, в трудную минуту, Александр Моисеевич ощущал острую необходимость в собеседнике. Причем в большей степени слушающем, нежели говорящем. Друзей у него не было. Женой не обзавелся. Из родных – только старуха-мать. К старости она сохранила ясный рассудок, но говорила теперь только о перипетиях жизни сериальных героев.
– Приехали. – Эрберг выбрался из машины и открыл дверцу с Наташиной стороны. – Пожалуйста.
Ночь дышала влагой. Застывшая духота предвещала скорый дождик – тихий и долгий. Ветер, наверное, удобно свернулся клубочком и спал, и вовсе не желал отгонять подступающее ненастье. В такую ночь добрые люди радуются, что у них есть дом!
Но Эрберг и Наташа направлялись не домой, не к семейному очагу, потому что, по большому счету, ни у того, ни у другого не было дома. Они, столь заметно разделенные жизнью, и столь скрыто объединенные – уж несколько дней, как! – смертью, даже выражением лиц сейчас были похожи. Женственная, мягкая, не умеющая быть проницательной Наташа и лысоватый, сгорбленный, будто от непосильной ноши, рыскающий вокруг цепкими глазами, Эрберг.
– Почему такая красавица плакала и что искала на дороге? Молчишь? Сомневаешься, наверное, нужны ли мне твои беды? И правильно сомневаешься – у меня и своих хватает.
– Какие же у людей вроде вас могут случаться беды? – поинтересовалась Наташа.
– Людей вроде меня нет. Я один, Наташенька! Один. Чижик, еще водки! – Он быстро пьянел, но говорил все быстрее. – А вот вроде тебя… Не обижайся на старого еврея.
– Да не до того мне, чтобы обижаться. Муж от меня ушел. Обиженные не обижаются. Делать что – не знаю…
– Муж, говоришь? А я тебя было…
– Что, за проститутку принял? – Хмель говорил и в ней.
Они одновременно засмеялись. А потом разбеседовались – и про синюю птицу судьбы – индейку, и про долги, что всегда возвращаются, и про ушедшего к другой мужа…
– Ушел, ну и черт с ним! – выпалила Наташа. – Победоносец хренов! Стерва-Кирка воображает, что он ее любит. Дулечки! Он любит только свой… – она выругалась.
– Пр-рекрасно, пр-рекрасно ругаешься! – обрадовался ее спутник. – Если бы я был твоим мужем, то ни за какие коврижки тебя не оставил бы.
– А разве ты не женат?
– А ты как думаешь? Странное дело, обычно бабы за версту холостых мужиков чуют. Есть все-таки в тебе что-то…
– Что что-то?
– Что-то… нер-рядоположное, нер-реаль-ное.
– Какое?
Наташа смутилась. Мужчина заметил, как в сумрачном полусвете ночного бара заблестела влажная поволока женских глаз.
– Ты либо смеешься, либо плачешь! – изумился он. – Как это по-русски! Давай-ка лучше еще выпьем. Чижик! На посошок!
– Нет, мне нельзя больше, – попробовала отказаться Наташа, испугавшись тяжести своего языка.
– А мне, что ли, можно? Чижик, на посох!
Девушка огляделась. Зачем она здесь, в компании поношенного и, оказывается, довольно хамоватого субъекта?
– Слышите, Александр, вот соображаю, чем оригинал, вам подобный, может заниматься: поди, содержите какую-нибудь лавчишку со всякой дрянью и дрожите над ней, как жид над изюмом. Да? Угадала? Ах, извините, совсем забыла, что подобных вам не существует… Что ж, экземпляр вы и правда редкостный.
Эрберг опешил. Он никак не ожидал такого наезда от бабы. Да и чем он ей не угодил-то?! Он даже картавить перестал от обиды. Все и впрямь последнее время шло комом. Менделей скурвился, сырье увели, свидетельница убежала. Бабенка, с которой хотел душу отвести, и та гонор показывает. Жеребина, вишь, от нее ускакал!