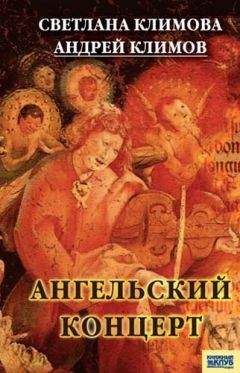Сабина задумчиво пожевала губами. Вкус у вина был ореховый, с мускатной горечью.
— Недурно, — проговорила она. — Вообще-то, на поселении я оказалась дальше тех мест, куда отправили отца и дочь Везелей, но тоже в Восточном Казахстане. Там уже предгорья, лето жаркое и короткое, а зима суровая, с лютыми метелями. «Высылка» отличалась от «ссылки» — режим был полегче, а Везелей, насколько я поняла, выслали. То есть они могли сами выбрать место жительства, кроме населенных пунктов, включенных в особый список, — «минус поселения». «Минус» этот в разных случаях насчитывал от пяти до пятидесяти названий. В Суюкбулак, я думаю, они поехали потому, что там была группа единоверцев. Через определенные промежутки времени полагалось отмечаться в органах, в остальном надзор за поселенцами возлагался на местные власти, и чем глуше и отдаленнее было место, тем свободнее люди себя чувствовали. Основная проблема — добыть пропитание. Чем там они занимались, вам известно?
Я пожал плечами. В своих записях Нина Дмитриевна этих вещей не касалась.
— Лично я, — проговорила Сабина, — работала на колхозной ферме. Можете себе представить: восемь едва живых коров, по колено в навозе, сапоги дырявые… И еще неизвестно, кто голоднее — скотина или скотницы. Оплата — две кружки снятого молока, одна утром, другая вечером.
— Но ведь вы же химик по образованию, Сабина!
— Это потом я стала химиком. А тогда кое-какие сведения по химии и биологии пришлись мне весьма кстати. Травы — съедобные и лекарственные, мази от чесотки и язв домашнего изготовления, а главное — самогон. Из чего угодно — от кормовой свеклы до ежевики. На него можно было выменять много необходимого, тем более что продукт у меня получался качественный, по заветам дедушки Менделеева. Хотите пару рецептиков?
— Бог с ними, Сабина, — я понюхал содержимое своего бокала. — Ну а пятьдесят третий? После марта разве не стало легче?
— Легче? — губы Сабины сложились в ядовитую усмешку. — Ничего подобного! Весть о смерти отца народов разнеслась мгновенно, это верно. Некоторые идиоты рыдали и клялись в верности, кое-кто сильно воодушевился в ожидании перемен. Однако их долго не было. Хорошо еще, что приближалось лето. Когда все наконец поняли, что на свободу не скоро, — опять зажили привычной жизнью. Правда, весна пятьдесят третьего оказалась трудной — из зоны по амнистии первыми вышли уголовные, психопаты, мошенники, и вся эта нечисть потекла по стране… Что касается надежды — да, врать не буду, надежда появилась.
— Что вы почувствовали, когда вам разрешили вернуться?
— Егор, — хрипло проговорила Сабина, прикуривая и прикрывая лицо рукой. Зажигалка в ее пальцах прыгала. — Этого никому не объяснить. Мы были потрепанной и перепутанной колодой карт в дьявольских лапах, и, чтобы из этого вышел какой-то новый расклад, требовалось еще больше терпения, чем в зоне. Мне, например, вообще некуда было возвращаться…
Она окончательно расстроилась, и я поспешил сменить тему.
— А как на поселении относились к лютеранам?
— Кого вы имеете в виду? Никто не делил ссыльных на лютеран, католиков или православных. Все шли по политическим статьям независимо от конфессий, даже священники. Лютеране в большинстве были немцами, чехами, латышами, а значит, потенциальными агентами и пособниками врага. Всякие попытки организовать службы или — страшно сказать! — создать религиозную общину жестоко пресекались. Поэтому что-то вроде молитвенных собраний могло проводиться только в самых диких местах вроде этого самого Суюкбулака, да и то недолго, потому что стукачей хватало повсюду. В целом же это были очень приличные люди — в отличие от основателя их церкви.
— Вы имеете в виду Мартина Лютера? — удивился я.
— Кого же еще? — Сабина ткнула сигаретой мимо пепельницы и тут же спохватилась. — Брат Мартин, монах-августинец, неистовый молитвенник, преуспевший в самобичевании и умерщвлении плоти, был великим путаником. — Она обернулась к Еве. — Это, между прочим, все тот же шестнадцатый век, дорогая, как раз тогда Грюневальд под крылышком братьев антонитов воплощал свои видения. Они с Лютером — одного поколения.
— Сабина, — перебил я, — но ведь миллионы людей во всем мире…
— Говорите за себя, — отрезала она. — Терпеть не могу, когда начинают вещать от лица миллионов. Ко времени появления Мартина Лютера католическая церковь имела огромное влияние, и многим это не нравилось. Что на самом деле заставило благочестивого монаха и богослова выступить против Рима — до сих пор покрыто мраком. Он был честолюбцем, но отнюдь не храбрецом. Протест против торговли индульгенциями? Чепуха. Лютер и сам не был высокоморальной личностью. Тем не менее он ввязался в сражение и отступить уже не смог. Да, он перевел на немецкий Библию. Был яростным полемистом, окружил себя учениками и боролся с ересями внутри протестантизма, которых тут же возникло великое множество. В общем, беспокойная жизнь… Но вот что удивительно: Лютер нисколько не задумывался об абсурдности своего положения и о том, что, собственно, он сделал, — зачем, ведь возникла новая религиозная общность, в которой ему было абсолютно комфортно. Торговля индульгенциями сменилась торговлей понятиями. Неприкрытая демагогия, капля добрых дел, удобства новой веры — этого стало достаточно, чтобы спасти душу от вечных мучений. Никто за всю историю Церкви не наносил такого удара ей и всему западному миру. Грандиозная разруха, которую в течение тридцати лет производила в матушке-Европе Реформация, все эти войны, смерти и пожарища — следствие ущербности и комплексов одного-единственного человека, который надумал прикрыться Христом, чтобы не остаться один на один со своей испорченной натурой.
— Как по мне, — заметил я, — это больше похоже на политику, чем на религиозную реформу.
— Возможно, — отмахнулась Сабина, — но не в этом главное. У протестантов и мысли не было отказываться от Господа Бога. Для начала они хотели разобраться с Римом, а затем увлеклись: решили заодно навести порядок и в царстве небесном… Лютер до поры свято верил в то, что говорил, — остальное довершили его последователи к концу шестнадцатого века: протестантская церковь стала церковью теологов и пасторов. Не больше. Теперь князь предписывал своим подданным, во что им верить, а каноническое право и таинства пошли побоку…
— Вы сказали: до поры? — перебил я Сабину.
— Когда ему исполнилось пятьдесят, Лютер заболел. Как только болезнь подступила к нему по-настоящему, он все еще надеялся на чудо, потому что ценил жизнь. Однако и умер он с достоинством — повернулся на бок и уснул. Как он оценивал прожитые годы, в чем раскаивался, осталось тайной. Исповеди не было, вокруг умирающего толпились единоверцы и почитатели, которые беднягу страшно раздражали. Он почти оглох, и ему ничего не оставалось, как утвердительно кивнуть в ответ на вопрос, который прокричал ему прямо в ухо доктор: «Вы верите в Иисуса Христа? Верите ли вы, досточтимый отец, в то, что проповедовали?» Смерть Лютера наступила 18 февраля 1546 года — спустя четыре года после учреждения инквизиции и через двенадцать лет после создания ордена иезуитов, ставшего главным орудием борьбы с Реформацией… Что он принес в церковную жизнь? Прежде всего не реформы, а дух войны и свирепого противоборства. Должно быть, именно поэтому после смерти учителя его ученики тут же вцепились друг другу в волосы и лютеранство стало делиться и дробиться на течения, секты, секточки, причем во главе каждой становились люди с оч-чень большими амбициями. Словно из-под земли появились мистики и фантазеры вроде Иоганна Андрее, который выдумал розенкрейцеров. Да-да, в самом деле выдумал эту якобы тайную древнюю доктрину от начала и до конца. Очень удачный литературный розыгрыш; кое-кто до сих пор всерьез в это верит.
— А розенкрейцеры тут при чем?
— Дело не в розенкрейцерах и не в масонах. Уже через полвека после Лютера лютеранство было просто не узнать, появилась нужда очистить и слегка «подморозить» учение. Вот этим и занялось протестантское богословие — целые династии университетских докторов, связанных родственными узами и окруженных зятьями и племянниками, которые, в свою очередь, были пасторами и богословами. В итоге от проповеди Лютера почти не осталось ничего живого, а церковь превратилась в сборище сонных и сытых бюргеров. Пламя веры едва тлело, и только очень одаренные люди вроде пастора Филиппа Шпенера…
— Как вы сказали, Сабина? Шпенер? — в моем рабочем блокноте была зафиксирована именно эта фамилия.
— Конечно. Филипп Якоб Шпенер из Франкфурта, автор трактата «Благочестивые устремления».
— И давно он его написал?
— В самом начале восемнадцатого столетия, если память мне не изменяет. Достопочтенный Шпенер попытался разбудить соотечественников от послеобеденной дремоты. А заодно предложил своим коллегам отказаться от пустой полемики по вопросам веры и приблизиться к жизни, чем нажил великое множество врагов.