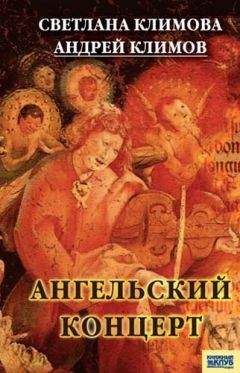Володя без промедления связался с Николаем Филипповичем Шпенером.
Не знаю, что его удержало, но пастору Шпенеру он не сообщил того, что позже поведал Матвею. Во-первых, тонкая веревка со скользящей петлей была нейлоновая и притом совершенно новая — в Москве такой не сыскать днем с огнем даже у спекулянтов. Во-вторых, в подвале, куда Володя попал в числе первых, было основательно натоптано, и совсем не дворовыми пацанами — он своими глазами видел отпечатки рубчатых подошв ботинок зарубежного производства примерно сорок третьего размера. И наконец самое существенное: когда человек собирается покончить с собой, он не убирает ящики, которыми пользовался, чтобы привязать веревку к высоко расположенной балке. Не складывает их у стены аккуратной стопкой после того, как сунул голову в петлю… Что касается записки, то Володе ее даже не показали.
Я держала в руках этот листок, вырванный из блокнота, который отец всегда носил при себе. Он действительно мог написать такую записку, и почерк был его. Но папа никогда не пользовался синими чернилами, только черными. И перо было другое — совсем не тот «паркер», который я ему подарила. Кстати, «паркер» и не значился в списке «ценных вещей», обнаруженных на покойном.
«Нина, прости меня, если сможешь. Береги себя, дитя мое. Дитмар Везель», — вот что там было написано. В немецком «verzeich» имелась совершенно детская описка и две помарки в словах «meine Kind» — «дитя мое»». На этом языке мой отец, независимо от состояния, писал без ошибок. До самой последней минуты не было ни малейшего намека на то, что он намерен свести счеты с жизнью. Это противоречило всему, что я о нем знала. Даже Володя, легкомысленный шалопай и выпивоха, что-то заподозрил; сама же я была абсолютно уверена в том, что папу убили, однако тоже предпочла молчать. То, что рассказал мне отец перед отъездом в Москву, — я не имею права ни писать об этом, ни поделиться с самыми близкими, даже с Матвеем, — дает достаточно оснований, чтобы предположить самое худшее. Через Матвея Володя передал мне буквально следующее: «Они знают, кто такая Нина. Будь очень осторожна».
Все хлопоты, связанные с получением тела отца из морга судебной экспертизы, взял на себя пастор Шпенер. Затем в Москву приехали Матвей с Галчинским, но ни мой муж, ни Володя Коштенко не стали делиться с Константином Романовичем своими подозрениями, как не стали обсуждать все эти странности и с Николаем Филипповичем, который неожиданно решил сопровождать их в Воскресенск. Они везли с собой запаянный в цинк гроб Дитмара Везеля. В Москве Галчинский подхватил грипп и едва держался на ногах…
Пастор Шпенер, когда-то сочетавший браком моих отца и мать, теперь провожал Дитмара Везеля в последний путь. Мы прощались с папой в ясную холодную погоду на лютеранском кладбище. Рядом со свежевырытой могилой находилось символическое надгробие мамы — на нем значилось ее имя, а под ним лежали ее обручальное кольцо и горсть казахстанской земли, в которую ее опустили в сорок седьмом. Людей было совсем немного, родители Матвея отсутствовали, — кто-то из лютеранской общины, пара моих однокурсниц и еще один неизвестный мне человек, все время державшийся в стороне и не сводивший с крышки гроба своих близко посаженных глаз с припухшими темными веками. Взгляд был упорный, гипнотически пристальный, словно он надеялся воскресить моего отца. Средних лет, очень высокий и худой, этот человек был одет во все черное, в одной руке держал шляпу, в другой — три белые хризантемы. Исчез он так же незаметно, как и появился.
Когда мы возвращались с кладбища — я шла между пастором и бледным, но уже спокойным Галчинским, а Матвей с остальными позади, — я спросила, не знает ли Константин Романович этого человека. В ответ Галчинский потер искалеченную руку и, морщась, проговорил: «Ваш отец был с ним в дружеских отношениях. Должно быть, познакомились в общине…» «Лютеранин? — удивилась я. — Но почему он не подошел ни к пастору, ни ко мне? Он здешний? Как его зовут?» Галчинский, всегда все знавший, вдруг раздражился. «Петр, — отрывисто произнес он. — Петр Интролигатор. Родился в семнадцатом в богатой семье — отец до революции торговал лесом и владел типографией. Поздний единственный сын. В девятнадцатом его родители и сестры умерли от тифа; Петра выходила кухарка и увезла в деревню. Затем детский дом. В институт его не приняли, а в сорок первом, как и прочих немцев, сослали. Он ухитрился выжить, вернулся в Воскресенск и даже получил комнатку в коммуналке… До войны моя мать опекала его — она служила в Наробразе, чем-то он ей приглянулся». «Интролигатор! — сказала я. — Вот так фамилия! По-русски это значит «переплетчик». А вы, Константин Романович, случайно не…»
Тут Шпенер, догнав нас, бережно подхватил меня под руку и негромко проговорил: «Нина, мы у себя в Москве… Мы намерены заняться вашим наследством — домом и имуществом Дитмара…»
От неожиданности я растерялась и стала невнятно благодарить.
Остановился пастор Шпенер у Галчинского. В те два-три дня, что он провел в Воскресенске, Николай Филиппович ни с кем не встречался и даже у нас с Матвеем не побывал. Сразу после кладбища мы вчетвером, как я ни сопротивлялась, отправились прямиком на Фрунзе, 7, к Константину Романовичу, где нас ждал ужин — нечто вроде скромных поминок. В большую квартиру, которую я знала не хуже своей…
Никогда не забуду первое впечатление — сразу после приезда в Воскресенск в пятьдесят четвертом. Галчинский жил здесь до войны с родителями и сюда же вернулся после ссылки. Гулкие комнаты, потолки под шесть метров, безвкусная лепнина — цветы и фрукты. Бронзовые рогатые люстры в каждой из четырех комнат, скрипучий дубовый паркет. Там было полным-полно теней и запахов, еще довоенных. Квартиру Константину Романовичу сохранил всемогущий директор безымянного стратегического завода, друг его отца — такое иногда удавалось. Да и сам он, как только пересек границу области, был зачислен в аспирантуру Педагогического.
Нас с отцом он поместил в своей бывшей детской — просторной и единственной светлой комнате в квартире. Вообще-то, больших комнат здесь было две — наша с отцом и гостиная, где, собственно, и обитал Галчинский. Он перетащил туда старинный отцовский письменный стол и библиотечные стеллажи — через месяц на них от пола до потолка громоздились книги. Спал он там же, в нише за портьерой, на низкой широкой тахте со множеством вышитых шелком подушек.
В этом доме сохранилась бездна вещей из какой-то прошлой жизни: бронзовые безделушки, хрусталь, фарфор и столовое серебро, множество ковров и ковриков; даже дверные ручки были сплошь литые, а занавеси — из тяжелого густо-синего плюша. Среди этого чужого великолепия я чувствовала себя не слишком уютно.
Остальные комнаты были поменьше: одна пятнадцать, другая что-то около десяти квадратных метров. Обе пустовали, и сколько Костя ни упрашивал меня занять ту, что побольше, я упрямо не соглашалась переселиться в бывшую спальню его родителей. Мы с отцом считали себя постояльцами, пользующимися его великодушием, и папа даже настоял на ежемесячной оплате жилья, чем вконец расстроил Галчинского.
С едой первое время приходилось туго — продуктов не было даже на рынке; однако от все того же директора завода Косте дважды в месяц доставляли «пакеты» — спецпайки. В квартире царил холод, постоянно случались перебои со светом — Галчинский просиживал над своими книгами до полуночи при керосиновой лампе, а отец предпочитал свечи. Помню острые плечи Галчинского над письменным столом, въедливый запах керосина от коптящей лампы с фаянсовым резервуаром, а на кухне — Дитмара Везеля в вязаной кофте и круглых очках на мясистом носу под бронзовым канделябром с одиноким оплывшим огарком.
Это только казалось, что после ссылки нам будет позволено жить как нормальным людям и отделаться от призраков прошлого. Тем более что отец каким-то образом умудрился, несмотря ни на что, сохранить мамино приданое и окончательная нищета нам не грозила. Дело было в другом: что-то не ладилось с его документами, и как следствие — не было ни прописки, ни работы. Отцу тяжело было сидеть одному в четырех стенах в вынужденном безделье, к тому же я сразу с головой погрузилась в студенческую жизнь. Если бы не Галчинский, а вернее, не его всемогущий покровитель, папе пришлось бы еще тяжелее.
В конце концов нам удалось прописаться в Воскресенске, а годом позже, продав большую часть маминых драгоценностей, — что было невероятно сложно и опасно! — отец приобрел ту самую двухкомнатную квартиру, где я сейчас пишу эти строки…
Матвей спит, он — чуткая душа — основательно перебрал на поминках. Странный обычай, сохранившийся только у славян.
Ближе к концу ужина пастор Шпенер зазвал меня в ту самую комнату, где мы раньше жили с отцом, и снова вернулся к вопросу о наследстве. Охотников, по его словам, на дом Везелей на Первой Бауманской было предостаточно, имелся также адвокат, который готов все быстро и толково оформить. Мне же остается только приехать в Москву по истечении полугода со дня смерти отца, подписать нужные бумаги и получить деньги. Ведь я не собираюсь претендовать на домовладение нашего деда? «Нет, — ответила я, — не собираюсь. Мне сейчас не до того, большое спасибо за помощь и хлопоты, Николай Филиппович. Мы с Матвеем приедем в середине лета, и я все сделаю, как вы скажете».