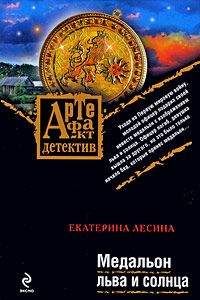– Все?
– Все, что захочешь. Во Францию хочешь? Или нет, туда не выйдет… ну в Польшу? Или ГДР? В Латвию еще можно. А хочешь в Крым, на море? Ты ж никогда на море не была, верно? А хочешь, в ГУМ поедем? Или нет, я тебе лучше в «Березке» платье достану… только, Бась, ты смотри, не больно-то трепись, я – человек известный, уважаемый. Понимаешь?
Известный и уважаемый. И во Франции был. И на море тоже. Только все равно таким в моей стране места не будет, потому что в моей стране – все настоящие, а Константин фальшивый. И я теперь тоже фальшивая.
К полудню Константин окончательно приходит в себя, выбирается из кровати, надолго запирается в ванной – шум воды и голос, завывающий знакомую мелодию, а я ухожу на балкон, чтоб не слышать ни Костика, ни мелодию. Сажусь на пол – нагретый солнцем, он не неприятен – и, глядя вниз, пытаюсь понять, что произошло. И кто я теперь. Только мысли утомляют, и скоро я просто начинаю смотреть. Машина по-прежнему стоит у подъезда, отливает ярко-красным лаком, а на крыше дремлет черный кот, растянулся мягкою игрушкой, будто неживой. На лавочке сидит женщина с коляской, читает книгу, какую – не видно, а вот из подъезда мальчик с собакой вышел и старуха с авоськой пустых молочных бутылок.
Сколько людей. И никто из них не знает меня. Наверное, это хорошо: если не знают, то и не осудят. Мне бы не хотелось, чтобы меня осуждали. Или Константина – он ведь гений, а гении, они все немножко другие, так Елена Павловна говорила.
А вечером в квартире появилась Настя.
– Ты сдурел! Ты понимаешь, что она – несовершеннолетняя? – Настин шепот, громкий, раздраженный, проникал сквозь стену. Я не собиралась подслушивать, я просто сидела на кухне и гадала, когда мне позволят отсюда уйти. Я не хочу оставаться на ночь и пить вино. Я хочу вернуться на съемочную площадку…
– Ну и что? Да осталось-то пару месяцев… зато…
– Зато ты – урод, не понимаешь, что если Дашка про это пронюхает, то партсобранием дело не ограничится? Да будь ты хоть трижды гений! Четырежды! Но это – уголовщина!
– Да, я гений! – Константин перешел на крик. – Да, Настя, я – гений! И мне это нужно! Огонь, страсть, чувства! Пламя эмоций, которое…
– Которое отправит тебя на скамью подсудимых, – жестко оборвала Настя. Почему она разговаривает с ним в таком тоне? И почему она вообще пришла сюда? Хотя нет, наверное, я даже рада, что она пришла. Она сердитая, но заберет меня отсюда, мне не хочется оставаться, а как уйти, не обидев, не знаю.
– Насть, ну ты ж знаешь, что ничего не будет!
– Ничего я не знаю и знать не хочу. Ты, Костик, меня в свои дела не впутывай, хватит уже…
Я подошла к окну. Сумерки. Серо-лиловые, из той ранней осени, когда еще почти что лето. В моей стране всегда будет лето и иногда весна. А осень… разве что ненадолго. Пять минут или десять. Я подумаю.
Сашенька, Сашенька, Сашенька… имя перекатывалось на языке тающей карамелькой, сладкое. Не «Взлетные», скорее уж «Дюшес»…
– Калягина, соберись! Мы же говорили, как нужно, или ты забыла? – Константин хмурится, но тут же расплывается счастливой улыбкой, он не умеет сердиться на меня, даже здесь, на площадке, хотя я снова ошибаюсь.
Настя вздыхает и обмахивается планшетом, на ее лице равнодушно-отстраненное выражение. Настя больше не приходит в гости. И со мной не разговаривает, и с Галиной тоже, когда я сижу на гриме. Наверное, я чем-то ее обидела, не Галину, Настю, но чем именно? Спросить? Но как? Я немного побаиваюсь этой внезапной холодности.
– Ну же, Басенька, давай еще разок! И ты, Федоров, постарайся, а то стоишь дуб дубом! Чувства покажи, эмоции, огонь, надрыв! Ты же себя ломаешь, переступаешь через заблуждения, которым был подвержен, чтобы идти вперед! Насть, поправь ей платье, а то мятое какое-то!
Настя кривится, но подходит и долго копошится, укладывая юбку аккуратными складочками. Я молчу, глядя на нее сверху вниз. Обесцвеченные перекисью волосы уложены все в ту же аккуратную и чуточку искусственную, похожую на парик прическу. На затылке чуть темнее, отливают желтизной.
– Не вертись, – сквозь зубы цедит Настя, закалывая складки иголками. Замираю и даже не дышу, чтобы не помешать. Нарядное платье из ярко-голубой вискозы жутко неудобно, в нем жарко, а скользкая ткань, прилипая к спине, на поясе норовит перекрутиться.
– Настя, – говорю шепотом, чтобы не услышали, Федоров-то совсем рядом, глядит так, с насмешкой и презрением будто бы, хотя за что ему меня презирать, мы ведь почти и не знакомы.
– Чего?
– Насть, ты извини, пожалуйста, я не знаю, что я сделала, но ты все равно извини… я ведь обидела тебя чем-то, да? Скажи, чем? Или, если хочешь, не говори, но прости… я ведь не нарочно.
– Ох и дура ты, Калягина. – Настя подымается и, одернув юбку, заставляет повернуться спиной. – За что на тебя обижаться? Ты тут ни при чем… ну да, сразу надо было понять, что ты тут ни при чем…
– Эй, вы там не языками чешите, а работайте! – прикрикнул Константин. – Время, время, товарищи! И так из графика выбились! Бася, умоляю, сосредоточься! И ты, Федоров, тоже!
Сосредотачиваюсь, старательно внушаю себе, что Сашенька… да, Сашенька. Я – это Сашенька. Красивое имя, сладкое, как карамелька… нет, Сашенька не любит карамельки, она шоколад любит, «Мишку на Севере» и еще «Красную Шапочку», а духи у нее французские – «Шанель № 5» и платье модное, из последнего номера «Бурды». Сашенька сама шила, всю ночь сидела и шила, потому что ей очень-очень хочется быть красивой, может быть, как Брижит Бардо, ну или хотя бы как Любовь Орлова, но Бардо интереснее.
Сестра говорит, что все это – глупости и нужно учиться, и Сашенька учится, у нее в аттестате одни четверки. Ну почти одни, тройка по математике – это потому, что способностей нету, а зато по музыке пятерка. И по физкультуре тоже, и по труду, естественно. И в училище она легко поступила, но ведь не всю жизнь над книгами – скучно. У Толстого вон Наташа Ростова уж на что положительная героиня, а тоже на балах танцевала!
И Сашеньке хочется. Танцевать. Петь. И чтобы ей говорили о том, что ее глаза – как звезды, и домой провожали, и письма писали анонимные, с признаньями в любви, правда, никто пока еще не написал, но верится, что обязательно, всенепременно напишут. И цветы дарить будут, корзинами, как артистке или балерине… разве Сашенька не заслуживает? Конечно, заслуживает.
– Сашенька, мне нужно с тобой серьезно поговорить, – сказал Дима. И сердце ухнуло вниз, забилось сладко-сладко, неужели он… он цветы дарил. Дважды – один раз гвоздики, а второй – ландыши. А еще стихи читал, и провожал, и в гости приходил, оставался чай пить. Сестре Дима нравится, она говорит, что Дима – серьезный, и намерения у него тоже серьезные, но до чего же он скучен, конечно, когда стихи не читает… а впрочем, чего уж тут, Сашеньке Дима тоже нравился, потому что красивый.
Но если он собрался предложение делать, то… то что делать? Сашенька не знает, ей никогда прежде замуж не предлагали. Согласиться? Или сказать, что подумает? Или ответить гордым отказом, заставить страдать и добиваться?
Нет, нельзя, чтобы Дима страдал, зачем? Сашенька не любит страданий, ей хочется, чтобы все-все вокруг было хорошо… даже когда плохо.
– Стоп! – орет кто-то над ухом. – Калягина, молодец, ну не совсем чтоб молодец, но пойдет. И ты, Федоров, можешь, когда захочешь!
На глазах слезы. Отчего я плакала? Или не я, а Сашенька? Наверное, от радости: если Дима любит сестру и собирается на ней жениться, то это хорошо. А Сашенька… Сашенька подождет, ей замуж совсем не хочется, а хочется танцевать и чтоб цветы дарили, пусть не корзинами – все же перебор, – так хотя бы букетами.
Странно, а мне вот никто никогда не дарил цветов. Стало вдруг обидно и горько.
– Ну а теперь-то чего реветь? – Настя платком вытирает слезы, не боясь попортить грим. – Чисто сыграла, молодец… одно хорошо, что ты, в отличие от Дашки, и вправду талантливая. Ох, Баська, ты только осторожней, ладно? А то ж талантливым, им вечно черти подножки ставят. Или люди.
Смешно говорит, и слезы высыхают.
– Люди, – добавляет Настя, – они куда хуже чертей будут.
– Вы не подумайте, что наговариваю, я к Маринке со всей душей, хорошая баба, только… – Юрий поглядел снизу вверх, как-то тоскливо, обиженно, будто Семен лично был виноват в его, Юриных, неприятностях. Свидетель Семену не нравился, скользковатый, и в глазах нет-нет да мелькнет нечто этакое, хитрющее. – Дашка-то хоть и взрослая, а дитя дитем. Вот мазня ейная не выходит, она и в истерику или придумает сама себе чего-то и дуется, день, другой, третий, и не подойдешь к ней. А я ж нормальный мужик, у меня потребности имеются. – Он замолчал, погладил бритую башку, дернул себя за ухо. – Я с Маринкой сугубо для постели встречаться начал. Еще по первости радовался. Нормальная баба. Себе на уме, никаких амуров ей не надо, ни цветов, ни стихов, ни ресторанов. Созвонились, встретились, перепихнулись и разъехались по делам. Не, не часто встречались, когда раз в неделю, когда и реже.