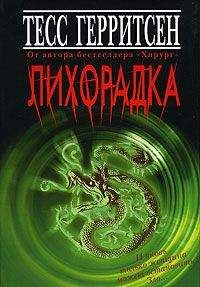— Что за люди? Я их ни разу не видел.
— А их никто не видит.
— Тогда откуда вы знаете, что они там?
— Спроси у Любого. Он им еду готовит и отправляет. Значит, эту еду кто-то ест… Ты ходить собираешься?
Яков заставил себя сосредоточиться на доске. Он выставил еще одну пешку.
— А чего бы вам не сбежать с корабля, когда мы приплывем? — спросил он Кубичева.
— С какой стати?
— Остались бы в Америке. Разбогатели бы.
Кубичев хмыкнул:
— Они мне нормально платят. Не жалуюсь.
— И сколько они вам платят?
— До чего ж ты настырный.
— Ну сколько? Кучу денег?
— Больше, чем я зарабатывал раньше. И больше, чем зарабатывают такие, как я. А работа — плавай взад-вперед через эту дерьмовую Атлантику.
Яков двинул своего ферзя.
— А судовой инженер — это интересная работа?
— Не стоит трогать ферзя раньше времени. Зачем ты так пошел?
— Пробую новые ходы. Может, и мне выучиться на судового инженера?
— Не советую.
— Но вам же хорошо платят.
— Только потому, что я работаю на «Компанию Сигаева». Они очень хорошо платят.
— Почему?
— По кочану.
— Ну скажите!
— Откуда я знаю? — Кубичев потянулся к доске. — Смотри, мой конь бьет твоего ферзя. Говорил тебе, это дурацкий ход.
— Я поставил опыт, — заявил Яков.
— И, надеюсь, чему-то научился.
Через несколько дней, придя в капитанскую рубку, Яков спросил у штурмана:
— А что это за «Компания Сигаева»?
— Где ты это услышал? — удивился штурман.
— Кубичев рассказал.
— Он не должен был говорить о таких вещах.
— Тогда и вы не говорите, — сказал Яков.
— Ты прав, парень.
Яков на время замолчал, наблюдая, как штурман возится с электронным оборудованием. Тот смотрел на экранчик, на котором постоянно менялись цифры. Некоторые из них штурман записывал в блокнот, поглядывая на карту.
— Где мы сейчас находимся? — поинтересовался мальчишка.
— Вот здесь. — Штурман ткнул пальцем в крестик на карте, в самую середину океана.
— Откуда вы знаете?
— Цифры рассказали. Я видел их на экране. Они сообщили мне широту и долготу места. Вот и все.
— Наверное, чтобы стать штурманом, нужно быть очень умным.
— В общем-то, особого ума не требуется.
Штурман передвигал по карте две пластмассовые линейки, соединенные общим стержнем. Отметив, что ему надо, штурман соединил линейки и поднял к самому верхнему краю карты, где была нарисована картушка компаса.
— Вы делаете что-то незаконное? — вдруг спросил Яков.
— С чего ты так решил?
— А разве не поэтому вам нельзя говорить о том, что вы возите?
Штурман вздохнул:
— Моя единственная обязанность — привести корабль из Риги в Бостон и потом назад в Ригу.
— Вы всегда возите сирот?
— Нет. Обычно мы возим грузы. Ящики с грузами. Что внутри ящиков — меня не касается. Я лишних вопросов не задаю. Вот так.
— Значит, вы занимаетесь чем-то незаконным.
— Ну что ты за любопытный чертенок, — засмеялся штурман.
Он снова стал записывать цифры в книжку аккуратными колонками.
Яков следил за действиями штурмана, потом спросил:
— Как вы думаете, меня усыновят?
— Обязательно.
— Даже с этим?
Яков выпятил культю левой руки.
Штурман посмотрел на него. В глазах взрослого блеснула жалость. Яков это заметил.
— Я точно знаю: тебя обязательно усыновят.
— Откуда вы знаете?
— Кто-то ведь заплатил за твой переезд в Америку. Оформил документы на тебя.
— Не видел никаких документов. А вы?
— Я усыновлениями не занимаюсь. Моя забота — привести корабль в Бостон.
Штурман выразительно посмотрел на дверь рубки:
— Шел бы ты к ребятам. Мне расчеты делать надо. Они внимания требуют.
— Чего мне туда идти? Все по койкам валяются и стонут.
— Ну тогда поиграй один. В другом месте.
Яков нехотя ушел из рубки и спустился на палубу. Палуба была пуста. Яков встал у перил. Он смотрел на воду, рассекаемую корабельным носом. Он думал о рыбах, плавающих под этой серой бурлящей водой. И вдруг ему стало трудно дышать. Бурление воды сдавливало ему горло. Но Яков не убежал с палубы. Он стоял, вцепившись в перила своей единственной рукой. В мозгу у него проносились страшные мысли, мелькали страшные картины холодных океанских глубин. Он давно, очень давно перестал ощущать страх.
И вот сейчас страх вдруг вернулся к нему.
Две ночи подряд ей снился один и тот же сон. Медсестры объяснили, что все дело в назначенных лекарствах: метилпреднизолоне, циклоспорине и обезболивающих таблетках. Эти препараты взбудоражили мозг. Волноваться не стоит: у всех, кто прошел через похожее состояние, бывают тяжелые сны. Постепенно они сами уйдут.
Но сегодня утром, проснувшись в слезах, Нина Восс поняла: этот сон не уйдет. Он останется с нею навсегда. Он теперь часть ее, как и пересаженное сердце.
Нина осторожно потрогала повязки на груди. После операции прошло уже два дня. Боль постепенно стихала, хотя по-прежнему будила ее по ночам, напоминая о полученном подарке. Ей досталось прекрасное, сильное сердце. Нина это поняла в первый же день. За долгие месяцы болезни она успела позабыть, что значит сильное сердце, каково ходить и не задыхаться; чувствовать, как теплая кровь постоянно омывает все жизненно важные органы, согревает мышцы, окрашивает пальцы в здоровый розовый оттенок. Она настолько свыклась с мыслью о смерти, что сама жизнь казалась ей чем-то необычным. Но теперь Нина воочию убеждалась: она будет жить. Она в буквальном смысле чувствовала это кончиками пальцев.
О том же говорило и биение ее нового сердца.
Но у нее пока не было ощущения, что сердце принадлежит ей. Возможно, это ощущение так никогда и не появится.
В детстве Нина часто донашивала одежду старшей сестры Каролайн. Сестра обращалась с вещами аккуратно, и потому ее добротные шерстяные свитера и нарядные платья выглядели почти как новые. Казалось бы, вся эта одежда переходила в безраздельную собственность Нины, но ей было не избавиться от ощущения, что она носит вещи сестры. Они так и оставались для нее «платьями Каролайн» и «юбками Каролайн».
«А чье сердце бьется теперь во мне?» — думала она, осторожно дотрагиваясь до груди.
В полдень приехал Виктор.
— Я снова видела этот сон, — сказала Нина. — Про мальчика-подростка. И такой яркий! Как наяву. Когда проснулась, я даже плакала.
— Дорогая, это всего лишь стероиды, — успокоил жену Виктор. — Врачи предупреждали о побочных эффектах.
— А я думаю, это не просто сон. В нем есть какой-то смысл. Неужели ты не понимаешь? Мальчик погиб, но часть его продолжает жить во мне. Я чувствую этого подростка…
— Зря медсестра разболтала тебе, кто был донором сердца.
— Я сама ее спросила.
— И все равно она не должна была говорить. Мальчишке уже ничто не поможет, а на тебя это нагоняет дурные мысли.
— Ты не прав, — тихо возразила Нина. — Я понимаю: его не воскресить. Но семья… если у него есть семья…
— Уверен: они не хотят, чтобы им бередили душевные раны. Сама подумай. Донорство органов — процесс сугубо конфиденциальный. И на то есть веские причины.
— Но почему бы не послать этим людям благодарственное письмо? Совершенно анонимное. Простое выражение…
— Нет, Нина. Это исключено.
Нина откинулась на подушки. Опять ее голова полнится глупыми мыслями. Виктор прав. Он всегда прав.
— Дорогая, а ты сегодня замечательно выглядишь, — сказал он. — Ты пробовала садиться?
— Дважды, — ответила Нина и вдруг зябко поежилась.
Ей показалось, будто в палате стало холодно, как зимой. Она даже отвернулась. Виктору незачем видеть, что ее трясет.
Возле кушетки, где спала Эбби, сидел Пит и смотрел на нее. Брат был в синей форме бойскаутов-волчат, с аккуратными нашивками на рукавах и ниткой пластмассовых бусинок, прикрепленной к нагрудному карману. Каждая бусинка — знак его бойскаутских успехов и побед. Не было только кепки.
«Куда же он дел кепку?» — подумала Эбби.
Потом она вспомнила: кепка потерялась. Они с сестрами обшарили каждый дюйм вокруг искореженного велосипеда, однако кепку так и не нашли.
Пит давно не приходил. С той ночи накануне отъезда в колледж. До этого брат появлялся несколько раз и всегда просто сидел и смотрел на нее, не произнося ни слова.
— Где ты был, Пит? — спросила Эбби. — Зачем приходишь ко мне, если просто сидишь и молчишь?
Брат не ответил. Он молча смотрел на нее. Его губы не шевелились. Воротник синей рубашки был накрахмален, а саму рубашку будто только что отгладили. Эбби вспомнила, как перед похоронами мать крахмалила и гладила рубашку. Неожиданно Пит повернул голову в сторону соседней комнаты. Похоже, его привлек какой-то звук. Фигура Пита задрожала, как потревоженная водная гладь.