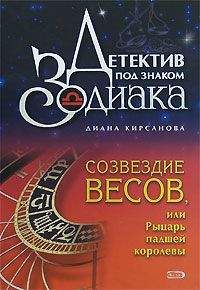«…Милый мой, здесь так пахнет свежим сеном… У Матрены – так зовут молодую телку нашей сторожихи – родился теленок… Девчонки боялись к нему подойти, а я кормила его с рук… Ты будешь смеяться, Стас, дорогой, но у этого теленка глаза, как у тебя – золотисто-коричнивые, доверчивые, глубокие… Сегодня я проснулась рано-рано и долго не могла понять, что со мной. А потом поняла и засмеялась: да это же я просто тебя люблю, так люблю, что даже просыпаюсь от этого счастья…»
Эти письма заставляли меня ежиться от какого-то неудобного чувства – я не хотел получать их, не желал быть для Катьки чем-то большим, чем она была для меня. «Мы только друзья – друзья, которым хорошо в постели!» – внушал я ей, конечно, не этими самыми словами, но все же… Меня всегда немного пугала серьезность ее взгляда – когда она смотрела на меня, мне всегда хотелось отойти в сторону и сказать ей оттуда: «Милая моя, ты ошибаешься, я вовсе не такое божество, каким ты, кажется, меня вообразила…»
Она не слишком любила, а главное, не слишком умела делать сюрпризы, поэтому я совсем не ожидал, что Катька сможет вырваться обратно в Москву за день до официального окончания практики. Завтра была какая-то дата – столько-то месяцев с тех пор, как мы познакомились. Окунувшись в духоту вечернего города, Катька, закинув на плечо тяжеленную сумку с вещами, долго обходила магазины на Калининском и Новом Арбате в поисках подходящего подарка. Она знала, что я давно хотел заколку для галстука – в то время я особенно полюбил носить галстуки, яркие эксклюзивные модели из фирменных бутиков, на которые порой спускал все свои наличные капиталы.
Денег у Катьки было совсем немного, но ей повезло: в одном из ювелирных отделов она увидела оригинальную заколку. Тонкое золотое основание блестело чешуйчатой шлифовкой и заканчивалось крохотной головкой в раздутом «капюшоне»: украшение было сделано в виде растянувшей тело змеи – кобры.
– Очень оригинальная штучка, – сказал седовласый продавец, выкладывая заколку на бархатную подушечку поверх стеклянной витрины. – И недорогая. Тут видите, какая хитрость: глаза у этой змейки не бриллиантовые, а циркониевые. На первый взгляд и не отличишь, такая специальная огранка, а на цене очень даже сказывается. Берите, девушка, вашему молодому человеку обязательно понравится. Драгоценная дарит драгоценность, – галантно добавил он.
Подарок аккуратно положили в специальную коробочку. Катька, счастливая от того, что у нее даже остались две монеты – как раз на метро, – зажала футлярчик в кулаке и выскочила на улицу.
Было совсем темно, когда она подходила к дому. Окна моей квартиры светились уютным желтоватым светом.
«Он дома!» – пропело ее сердце. «Спит, наверное», – успокоительно шепнуло оно, когда никто не ответил на веселую трель звонка. «Ничего не случилось, он просто не слышит», – бормотала Катька после десятиминутного ожидания, нервно роясь в доверху забитой вещами сумке в поисках ключей, которые я по совершенно непростительной глупости когда-то ей доверил.
Дверь наконец скрипнула – я смотрел на Катьку сквозь тоненькую щелочку между дверью и косяком. Сказать, что я был удивлен ее неожиданным, а главное, несвоевременным появлением – значит, ничего не сказать.
– Здравствуй.
– Здравствуй, – я кольнул ее щеку поспешным, непривычно коротким поцелуем. – Ты рано? Я ждал тебя завтра и не успел приготовиться, прости.
– Это неважно, милый. Главное, что ты меня ждал.
Отстранив меня, Катька привычно пробежала по квартире – сумку с вещами в шкаф:
– Разберу утром!
На кухню – поскорее отвернуть кран, в стакан ударила холодная струя – наконец-то, так хочется пить! – в большую комнату – поставить в вазочку купленный у метро букет садовых ромашек. И в ванную, скорее в ванную, в спасительный душ, на ходу снимая с себя пропахшую пылью и потом дорожную одежду.
– Стас! Ну до чего ж ты бестолковый – ну никакой хозяйственной жилки! Ты полотенца в ванной хотя бы раз менял, пока меня не было?!
Розовое с серым налетом банное полотенце полетело в корзину – Катька выговаривала мне за то, что у меня скопилась куча грязного белья:
– Завтра же затеваю большую стирку!
И раздетая, в одних трусиках, Катька проскочила в спальню, щелкнула выключателем.
– Зачем ты погасил свет? – потянула на себя выдвижной ящик комода и обмерла, вцепившись обеими руками в шершавый деревянный край.
В зеркале напротив мелькнуло чье-то отражение!
…Запахнув на себе купальный халат, я в это время сидел в кухне, машинально разминая в пальцах сигарету. Совершенно непонятно было, что я собирался с ней сделать – ведь я не курил. Когда из спальни донесся испуганный Катькин вскрик, я не тронулся с места. Только ниже наклонил взлохмаченную голову и вжал ее в плечи.
* * *
Первое, чисто инстинктивное, движение – прикрыть голую грудь руками. Второе – подняться с колен и подойти к кровати, где под сбитыми в ком смятыми простынями шевелилось… шевелилась…
Чувствуя, что она вот-вот потеряет сознание от свистящего шума в голове и стараясь понять, почему в комнате вдруг так сильно потемнело – ах нет, это потемнело у нее в глазах! – не опуская поднятых рук, Катька деревянной походкой подошла к кровати. Постояла, прислушиваясь к пульсирующей, нарастающей боли в обоих висках. Решившись, с силой сдернула с нее махровую простыню.
Скорчившись в позе вареной креветки, жмурясь от света и пытаясь спрятаться, вдавить в подушку красное, пылающее стыдом лицо, в постели, которую Катька имела все основания считать своей, лежала… Марина Доронина.
Та самая Марина, с которой они дружили со второго класса, та Марина, которая считалась и была «самой-самой» ее подругой!
– Что ты тут делаешь?
Кусая губы, Марина поднялась с кровати во всей своей вызывающей наготе. К середине лета ее тело покрыл ровный золотистый загар. Фигура ее оставалась тонкой, по-мальчишески неразвитой и от того особенно обольстительной.
Она быстро глянула на Катьку и отвела глаза.
– Ты задаешь идиотский вопрос, – сказала она тихо.
– Что ты делаешь в моей постели?!
– Понимаешь… – начала Марина. И замолчала.
– Что ты делаешь в моей постели? В этом доме?!
– Катя, – тихо сказала Марина. – Я тебя понимаю, ты в бешенстве, и… и… не знаю, на твоем месте я саму себя бы вообще, наверное, убила. Ситуация идиотская, подруга, но когда две голые женщины начинают выяснять отношения, не постаравшись натянуть на себя хотя бы трусы, это выглядит… несколько фантасмагорично. Я тебе все объясню, Катюша, но разреши мне сначала одеться.
Судорожно развернувшись, Катька увидела на полу возле кровати брошенные вещи – шелковый брючный костюм, мальчиковую майку, скомканные белые трусики, – рывком сгребла все это и швырнула в бывшую подругу.
– Одевайся! Быстро! И пошла вон отсюда!
– Катька…
– Я не хочу тебя слушать. Я тебя ненавижу!
– Кать…
Всхлипнув, Катька выбежала из комнаты – она бежала, как пьяная, натыкаясь на углы и чувствуя, как знакомые предметы расплываются, расползаются, блекнут. Внутри была пустота. Ее выпотрошили. Раскрыли грудную клетку и вынули все, все, взамен оставив одну только боль. Острую, пронзительную, режущую, как хирургический скальпель.
Ничего уже не видя, ощупью она дошла до двери, слабо дернула ручку – заперто. «Господи, как же мне больно. Надо куда-то идти. Все равно куда, оставаться здесь нельзя, эта боль разорвет меня. Назад. Куда? Все равно. Все равно, лишь бы уйти».
Коридор. Дверь. Еще дверь. Чье-то бормотание за спиной. Стекло – оно не пускает, держит, слабо пружинит под дрожащими пальцами. Где-то здесь… Где-то здесь есть выход из этого плена боли, из этого кошмара…
Она вошла в ванную, зачем-то до отказа отвернула кран. На нее обрушился шум хлынувшей воды, нарастающая, как сирена, боль в груди бросила ее к шкафчику над зеркалом, где я хранил лезвия для опасной бритвы. Резко полоснув бритвой по руке, чтобы заглушить душевную боль болью физической, она долго и с удивлением смотрела, как по запястью змеится алая струйка. А потом опустилась перед ванной, в которой, быстро набирая розовый цвет, пенилась вода, на колени и сосредоточенно хлестала и хлестала себя по венам опасной бритвой, вспарывая тонкую белую кожу запястий, изрезая ее в лохмотья.
Мы с Мариной не сразу поняли, что там происходит. Мы сидели на кухне и ждали, когда Катька выйдет к нам, смотрели друг на друга и молчали, прокручивая каждый у себя в голове слова и фразы, которые должны (или не должны?) были ей сказать.
И только когда из-под двери хлынула вода, а Катька не произносила ни звука, хотя мы принялись стучать в ванную и звать ее, – только тогда мы поняли, что случилось что-то недоброе.
Я вышиб дверь одним ударом.
…Когда, очень не скоро, Катька пришла в себя, то первой, кого она увидела в полуметре от себя, была Марина. В накинутом на загорелые, красивые плечи белом халате Доронина сидела на стуле и, чутко откликаясь мгновенным взлетом темных бровей на каждое ее движение, следила за тем, как подруга приходит в себя.