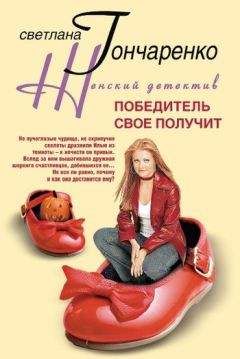Всех выручил припев:
Оч-чень хорошая водочка у нас!
Илья наклонился с бутылкой к своим стопочкам, когда знакомый голос насмешливо сказал:
– А здесь ты куда органичнее, чем у меня!
Илья поднял глаза и наткнулся на круглое небритое лицо Кирилла Попова. Режиссер держал в руках пакет с сосисками и банку горчицы. Его глаза-блюдца весело отражали обескураженную физиономию Ильи в богатырской ермолке.
– Здравствуйте, – машинально сказал Илья.
Попов подмигнул, опрокинул в свой маленький рот дегустационную порцию «Очень хорошей» и быстро пошел к выходу.
Он был уже недалеко от дверей, когда случилось то, чего Илья больше всего боялся: из подсобки выглянула Анжелика. Она мгновенно узнала знакомый силуэт. Оба ее глаза вдруг стали одного размера и засияли счастьем.
Кирилл уже выходил на улицу. Анжелика, часто и громко стуча по плиткам пола длинными иглоподобными каблуками, устремилась за ним.
Она была почти у цели и уже коснулась двери протянутой рукой, когда кто-то в бирюзовом преградил ей путь, а кто-то в черном встал рядом. Кажется, в черном был верный Леха?
Анжелика не хотела сдаваться. Она неожиданно далеко оттолкнула Леху, а сама прыгнула в сторону. Бирюзовый телохранитель успел схватить ее за руку. Анжелика тоненько заверещала и укусила подоспевшего Леху в угольно-черное плечо.
– Гляди, куда льешь! – одернул Илью строгий копьеносец. – Не пялься по сторонам: этот пацаненок гнусный, который выпил, снова где-то здесь. Приглядывай за ним – Стасу из-за инструмента ни хрена ниже носа не видать. А нас камера снимает!
Аккордеонист в это время наяривал «Прощание славянки», Илья потчевал «Очень хорошей» ветеранов войны и труда, а копьеносец усердно проверял удостоверения.
Тем временем скандал у дверей разгорался: Анжелика сопротивлялась Лехе и рвалась на волю. Леха, искусанный уже в нескольких местах, пытался и не мог взять ее на руки, чтобы отнести в служебное помещение. К тому же Анжелика, когда Леха отрывал ее от пола, отчаянно размахивала длиннющими ногами и могла ранить каблуком кого-нибудь из покупателей. Леха беззвучно матерился. Наконец он крепко обхватил могучими руками ребра Анжелики. Та вскрикнула и поникла – очевидно, потеряла сознание.
Илья вспомнил ужасный красно-синий бок битой Изоры и сорвался с места:
– Оставь ее! Разве можно так? Ей же больно!
Он не проделал в направлении Лехи и трех шагов, когда его сбил с ног неожиданный удар сбоку.
Богатырский шлем свалился и покатился по полу, гремя, словно пустое ведро. Торговый зал «Фурора», битком набитый дегустаторами, дрогнул перед глазами Ильи, залился чем-то густо-багровым, а потом черным. Вместе со светом исчезли звуки – все, кроме сухого звона в ухе, производимого болью.
Очнулся Илья тоже от звука. Это был голос матери. Обычно очень сговорчивая, теперь она причитала отчетливо и гневно:
– Да что же это за порядки? Как он смел ударить ребенка! Вызывайте скорую!
Знакомая нашатырная вонь ударила в ноздри. Илья открыл глаза.
– Илюшенька! Как ты? Где болит?
Илья удивленно повел глазами. Над его головой простиралась безбрежная гладь потолка. Из середины потолка ледяной грудой росла хрустальная люстра немыслимых размеров. Больше ничего в мире не было.
– Вы же видите, ему нужен врач! – снова где-то далеко в стороне закричала мать.
Спокойный голос отвечал ей:
– Зачем врач, Томочка? Он глаза открыл. Он моргает. Все хорошо! Тазит совсем несильно его ударил. Я видел – я недалеко стоял.
Оказывается, где-то поблизости, за горизонтом, существовал и Алим Петрович Пичугин. Было даже слышно, как он дышит. Затем громкие шаги надвинулись с двух сторон, и две головы сомкнулись над Ильей сверху, заслонив люстру.
– Илюшенька! Сынок!
– Говорить можешь? Сесть можешь?
Илья немного поводил глазами. Затем он оперся на локти, привстал и огляделся. Он увидел себя уже без богатырских доспехов, в кабинете Алима Петровича.
Лежал Илья на том самом диване, где позавчера нашли предполагаемый труп хозяина. Персидский ковер еще не вернулся из чистки, но все прочее было на местах, включая губернаторский тазик и свежую розу в бокале. А люстра, если присмотреться, не такая уж огромная – чуть побольше ведра.
– У ребенка сотрясение мозга, – уверенно заявила Тамара Сергеевна.
Она стояла у дивана с пузырьком нашатырного спирта. Когда Илья болел, она всегда называла его ребенком.
– Какое сотрясение? – не соглашался из своего мягкого кресла Алим Петрович. – Откуда сотрясение? Тазит несильно бил. Я видел! Поверни голову, мальчик!
Илья повернулся.
– Болит?
– Кажется, нет.
– Вот видишь, Томочка! Крепкий твой сын, удалец. Завтра будет совсем здоровый. Премию получит, да?
Илья согласно замотал гулкой головой.
– Иди, Томочка, работай! Пусть Илюшка тут полежит. Мы с ним потолкуем.
– Ему нужен врач, – не унималась Тамара Сергеевна. – Он поедет сейчас со мной в травмопункт.
– Хочешь, Илюшка, в травмопункт? – вкрадчиво спросил Алим Петрович.
Илья помотал головой отрицательно.
– Видишь, Томочка! Иди работай, – распорядился Пичугин. – У тебя отдел стоит! А мы с Илюшкой тут будем. Надо говорить! Мужской разговор.
Когда Тамара Сергеевна ушла, Алим Петрович выбрался из кресла и сел рядом с Ильей, основательно продавив мякоть дивана своим тяжелым телом.
Илья не видел шефа с того вечера, когда Изора отравила чай, и даже не знал, что Пичугин в «Фуроре».
Сегодняшний Алим Петрович не хромал, как Анжелика, и лицо у него осталось вполне симметричным, но и в нем что-то тоже изменилось. Он не то чтобы осунулся, а потемнел лицом и поскучнел. Серый его костюм был, как всегда, великолепен. Галстук в розовую и мышиную полоску мерцал на груди и тонко гармонировал со всем нарядом, включая светлые туфли, виртуозно испещренные узором из дырочек. Лишь яхонтовые глаза Алима Петровича были сегодня неспокойны и меньше искрили, а на лбу обнаружилась складочка.
– Поговорим, Илюшка, – вздохнул Алим Петрович.
Ничего хорошего эти слова не обещали. Владелец «Фурора» устроился на диване поудобнее, и от него волнами ароматов так и покатили Париж с Миланом.
– Зачем, Илюшка? – с укором спросил Алим Петрович, склонив голову. – Только не ври – все равно правду узнаю. Лучше сам скажи, зачем драться полез?
– Когда?
– Сегодня. На акции.
– Я не дрался, – ответил Илья. – Даже пальцем никого не тронул! Я, наоборот, хотел, чтоб драться перестали.
– Зачем лез? Любишь ее?
В голосе Алима Петровича была такая мука, что Илья затрясся от страха.
– Кого люблю? – еле слышно пролепетал он.
– Анжелику. Любишь ее?
– Нет.
– Тогда зачем сейчас весь красный стал?
– Я просто не понял, про кого вы спрашиваете.
– А ты про кого подумал?
– Не знаю. Но Анжелику я не люблю, честное слово.
– Зачем лез?
Илья вспомнил брыкание Анжелики в железных лапах Лехи, вспомнил и ее распухший цветной бок.
– Мне не нравится, – сказал он, – когда бьют женщин. Так делать нельзя, особенно здоровенному качку вроде Лехи. Я просто не могу на такое смотреть. Жалко! Еще не могу видеть, как обижают слабых или животных мучают. Маленьким я видел, как топили котят. Такого я не выношу!
– Так ты ее не любишь? – снова спросил Алим Петрович. – Только жалко, и все?
– Жалко. Анжелика очень жалкая. И красивая.
Илья тут же понял, что зря заикнулся о красоте Изоры. Алим Петрович откинул назад свою идеально круглую голову и грозно воздел палец к небу:
– А вот красивых, Илюшка, никогда не жалей! Они не слабые. Не жалей их, просто бери. Они всех сильней! Ты знаешь: Анжелика мне в чай таблетку бросила. Я болел, чуть не умер! Меня рвало, а она убежала. И что? Я простил! Я люблю ее. Она белая, как снег, и горячая, как огонь. Она моя до смерти. Надо будет, убью, а никому не отдам. Ты зачем стал весь красный, когда я спросил? Не любишь Анжелику? А не врешь? Что ж тогда? Другую любишь?
– Да.
Илья решил, что безопаснее говорить правду.
Алим Петрович покачал головой:
– Плохо! Как зовут?
– Кого? – не понял Илья.
– Ее.
– Тара. То есть Ксения. Ксюша Ковалева.
Алим Петрович так строго глядел на Илью своими немигающими яхонтами, что пришлось выложить всю подноготную.
– Живешь с ней? – продолжил допрос Алим Петрович.
Илья пожал одним плечом, дернул носом и сделал кислую гримасу. Себя он сейчас не видел, но своим лицом хотел выразить неопределенность. Чистая правда теперь не годилась – вряд ли Алим Петрович станет уважать человека, который влюблен, но не живет с любимой.
Гримаса, похоже, удалась, потому что Алим Петрович спросил:
– Сильно тебя любит?
Илья скорчил ту же гримасу и даже перестарался: вдруг заныла скула, которую ударил Тазит.
Алим Петрович снова покачал мудрой головой:
– Надо, чтобы сильно любила! Дари подарки, в ресторан ее води, корми сладко. Женщины любят хорошую еду. Говорят, что худеют, а всегда выберут самое дорогое. Выберут самое сладкое, самое жирное! Хорошо ее корми.