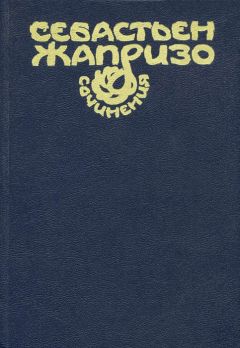Понедельник, тринадцатое июля. Утро.
Цветочки на обоях в моей комнате. Голубые с красными тычинками. Грязная повязка на руке. Часы на правой руке тикают у самого уха. Из-под простыни торчат мои голые ноги. Я спускаю их на горячий коврик, как раз на то место, куда бьет солнце. Под моим окном, в бассейне, две светловолосые девушки плывут рядом, широко и бесшумно взмахивая руками. Сквозь неподвижные листья пальм виднеются раскаленное небо и море, то самое море, которое я так мечтала увидеть. Все такое ясное, светлое.
Я нашла на умывальнике кусочек рекламного мыла и выстирала белье, которое сняла с себя накануне. Чем пахло мыло? Теперь уже не помню. Как не помню и того, что я пережила в это утро. Некоторые детали вдруг отчетливо всплывают в моей памяти, остальное навеки ушло. А может быть, и эти отчетливые воспоминания — плод моей фантазии? Теперь-то я знаю, что безумие именно в этом и состоит, в точных подробностях — голубые цветочки с красными тычинками, грязная повязка, солнце среди пальм — во множестве четких деталей, которые не связаны между собой и ни к чему не приводят.
Я могла бы провести в этом номере весь день, а потом еще один и еще один, не сходя с места, до тех пор, пока не исчезло бы все, и ребенок, и кровь, и не нужно было бы лгать самой себе.
Время от времени со мной разговаривала Мамуля. Это она заставила меня заказать кофе в номер, она заботилась обо мне, она говорила за меня моими устами по телефону, она словно вселялась в меня. Это она сказала мне: «Дани, Дани, очнись, посмотри, что с тобой стало». Я взглянула на себя в зеркало над умывальником. Я старалась прочесть, что кроется за моим взглядом, понять, что за тайна скрыта в моей голове, в моей душе, тайна, которая бьется, как птица, попавшая в неволю.
Потом я выпила две чашки черного кофе, приняла холодный душ, и мне стало легче. Время — лучший лекарь. Надо только переждать, как подводная лодка, уйти под воду, и потом я снова услышу голос Мамули. Что-то во мне словно погружается в глубокий сон, и я на некоторое время успокаиваюсь. Да, мне становится легче.
Я надела белый костюм, темные очки, перевязала руку мокрым бинтом. Когда я искала в сумочке гребенку, я обнаружила, что Филипп, покидая меня во второй раз, забрал мои деньги. И конверт и кошелек были пусты.
Я не помню, чтобы пропажа огорчила меня. В конце концов его поступок естественней, это я могу легко объяснить. Мало того, если бы Филипп остался со мной, я все равно бы отдала ему деньги. У него не было ни су, и я рада за него. А теперь пусть убирается к черту.
К тому же, поскольку до этого ни одна мысль, кроме как мысль о том, что мне делать — идти ли в полицию и во всем сознаться, или же броситься в море, — не приходила мне в голову, то кража Филиппа даже помогла мне, действительно помогла. Я подумала, что прежде всего мне нужно отыскать отделение Национального банка и получить деньги по чеку. Мамуля сказала: «Это разумнее, чем сидеть в номере и терзаться. Благословляю тебя».
Я спустилась в холл, спросила у администратора, как проехать в отделение банка, и предупредила, что оставляю номер за собой. «Тендерберд» был на том же месте в саду, где я его поставила, раскаленный от солнца, и я обругала себя за то, что не отвела его в тень, но, сев за руль, однако, не почувствовала запаха, которого так боялась. Я изо всех сил старалась не думать о том, во что должен превратиться в такую жару труп человека, убитого около трех суток назад. Я привыкла подавлять свои мысли. Сколько я себя помню, мне всегда приходилось бороться против какой-нибудь ужасной картины, которую рисовало мне мое воображение. Моя рыдающая мать, которой сбривают волосы, за несколько минут до того, как она выбросилась на улицу с третьего этажа; ее распростертое на тротуаре тело. Кричащий под вагоном внезапно тронувшегося товарного состава отец. И я твержу себе: хватит, остановись, дуреха…
Всюду солнце. Я поставила машину на теневой стороне главной улицы Касси, которая вела на пристань. Я опустила верх машины, чтобы ветер развеял дурной запах и мои страшные сновидения. В банке, куда я вошла, было чисто и спокойно. Мне сказали, что я могу получить со своего счета в Париже семьсот пятьдесят франков, но так как я уже потратилась в Фонтенбло, то взяла всего пятьсот франков. Мамуля сказала мне: «Возьми все, что можно, эти деньги пропадут, беги за границу, исчезни». Но я ее не послушалась.
Ожидая, когда мне оформят получение денег, я увидела большую дорожную карту на стене и вспомнила одну фразу в телефонограмме: «Я поеду за тобой в Вильнев». Я посмотрела, нет ли Вильнева в районе Шестого или Седьмого шоссе, между Парижем и Марселем. Были Вильнев-Сен-Жорж, Вильнев-ла-Гияр, Вильнев-сюр-Иони, Вильнев-л’Аршевек, Вильнев-лез-Авиньон, и много еще других городков с этим названием, не считая, конечной, деревушек, которые не помечены на карте. Сперва у меня опустились руки.
Я взяла на заметку Вильнев-ла-Гияр, который находится сразу после Фонтенбло, где я в последний раз открывала багажник и видела, что он пуст, а также Вильнев-сюр-Иони, около Жуаньи, где я встретилась с похитителем фиалок. Но скорее всего оба эти городка не имеют никакого отношения к моей истории. Мамуля сказала: «Совершенно никакого, если вспомнить телефонограмму. Она была адресована пассажиру самолета. Кто же полетит самолетом в Вильнев-ла-Гияр, который находится в пяти сантиметрах от Парижа, можешь сама измерить».
Я получила деньги, спрятала их в сумочку и спросила, есть ли в Касси агентство путешествий. Оказалось, есть, в соседнем доме, мне нужно всего лишь выйти из одной двери и войти в следующую. Это я приняла за хорошее предзнаменование, тем более что на объявлениях, почти одинаковых, вывешенных на дверях банка и агентства, я прочла, что сегодня, в понедельник, тринадцатого июля, они работают до девятнадцати часов. Бог дал мне возможность получить деньги, и у меня оставался еще целый час. Мамуля спросила: «Зачем?» Я и сама не знала. Просто чтобы двигаться, чтобы сделать еще что-то, что свойственно живому существу, чтобы побыть на свободе до того, как в моей машине обнаружат труп и меня схватят, бросят в темную камеру, где я буду сидеть скрючившись, обхватив голову руками, как младенец во чреве матери, как в те времена, когда меня носила в своем теле Рената Кастелляни, Лонго по мужу, родом из Сан-Аполинера, провинция Фрозинон.
Я попросила дать мне расписание «Эр Франс» и, выйдя из агентства, принялась изучать его, стоя на залитом солнцем тротуаре, по которому толпой шли на пляж курортники. Четыреста пятый рейс, указанный в телеграмме, был рейс Париж — Марсель. Обслуживали его «каравеллы». Самолет вылетал по пятницам, если это не совпадало с праздником, из Орли в девятнадцать часов сорок пять минут и прибывал в Марсель (аэропорт Мариньян) в двадцать часов пятьдесят пять минут. Я сразу же подумала: «Вильнев, который я ищу, должен быть Вильнев-лез-Авиньон, так как другого южнее на карте нет». В то же время в моей памяти зашевелилось что-то смутное и гнетущее, я никак не могла определить, что, не могла вытащить это на поверхность.
Я поискала глазами «тендерберд». Он по-прежнему стоял у противоположного тротуара. И вдруг мне вспомнилась карточка на конторке в гостинице «Ренессанс» в Шалоне, и я поняла, что это и угнетает меня. Ведь именно в «Ренессансе» мне сказали, что когда я якобы останавливалась у них в первый раз, я ехала из Авиньона, и я им ответила, что это чепуха. «Вот видишь, — сказала мне Мамуля, — все специально подстроено, чтобы погубить тебя, все предусмотрено заранее. И если в твоем багажнике обнаружат труп, кто же тебе поверит, что ты ни при чем? Умоляю тебя, беги, беги куда глаза глядят, и никогда не возвращайся». И я опять не послушалась ее.
Я пошла на пристань. Накануне, когда я спрашивала дорогу в гостиницу «Белла Виста», я заметила в конце набережной почтовое отделение. Сейчас, проходя мимо, я вспомнила, как там же у пристани, только поздно вечером, какой-то подвыпивший молодой человек чмокнул меня в губы, и инстинктивно обтерла рот забинтованной рукой. Я ответила Мамуле: «Не волнуйся, подожди, я еще не начала защищаться. Я совсем одна, это правда, но я ведь всегда была одинока, и пусть даже весь мир ополчится против меня, словом, я собиралась с силами.
В почтовом отделении было темно, особенно после яркого солнца улицы, и мне пришлось сменить очки. Я увидела прикрепленные к покатой конторке несколько телефонных справочников всех департаментов. Я раскрыла справочник абонентов департамента Воклюз. Некий Морис Коб действительно проживал в Вильнев-лез-Авиньон.
В глубине души, видимо, я на это не рассчитывала. Сердце мое тяжело застучало. Я не могу объяснить, что почувствовала в тот момент. Его имя было напечатано, и это было нечто отрезвляюще холодное, реальное, гораздо более реальное, чем телефонограмма, переданная из моей квартиры, чем труп, запертый в багажнике машины. Любой человек — и не только в последние два дня, но много месяцев раньше — мог раскрыть толстую телефонную книгу и прочитать эту фамилию и этот адрес. Да, я не могу объяснить, что я почувствовала в этот момент.