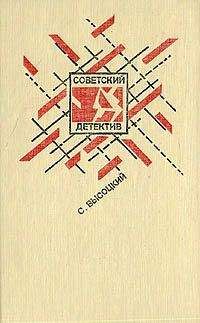— Уже еду, — сказал Рукавишников и повесил трубку. Оттого, что ему не придется сейчас тащиться к себе домой, у него отлегло от сердца.
...Лида ждала его. На столе дымились пельмени, заваривался чай в огромном чайнике, накрытом смешной матрешкой, и стояли две рюмки.
— По какому случаю гуляем? — спросил Алексей Иванович.
— По случаю твоего дня рождения, Алешенька, — она поцеловала его в щеку. — Было ли вам весело в уютной служебной компании? Как танцуют молодые сотрудницы?
За едой они привычно шутили, обменивались ничего не значащими фразами, но Алексей Иванович чувствовал, что Лида поглядывает на него с тревогой. Наверное, видела по лицу, что случилась беда. А у Рукавишникова никак не поворачивался язык рассказать о вчерашнем происшествии. Поймет ли она? Поверит ли? Он знал, что Анюта, его бывшая жена, никогда бы ему не поверила! В лучшем случае, сделала вид, что поверила, и носила бы камень на сердце всю жизнь.
— Я много слышала хороших слов о твоем рассказе, — сказала вдруг Лида. — Правда. У наших матрон, — так она величала своих очень пожилых сослуживиц, — даже спор разгорелся: было ли это в жизни или ты все придумал. «Не будете ли вы так любезны, Лидия Михайловна, узнать об этом у вашего знакомого?» — передразнила она какую-то из «матрон». — Так что имею к вам поручение.
— А как ты? Тебе понравилось?
— Мне нравится все, что ты пишешь, — улыбнулась Лида.
— А если серьезно?
— Если очень серьезно... — она задумалась. Лицо у нее стало какое-то отрешенное, далекое... — Я прочитала, и мне стало не по себе. Страшно. Люди пережили этот ужас — войну, блокаду, смерть близких, — зачем же заставлять их переживать все это снова? Зачем их мучить? Ведь каждый начнет вспоминать. У людей изболелось сердце, Алешенька. А ты их снова войной! И ведь талантливо, — она улыбнулась. — Будут сердечные капли глотать, — увидев, что Алексей Иванович помрачнел, она подсела к нему, потерлась головой о его плечо. — Не сердись. Я ведь глупая баба и сужу по-бабьи. А молодежь, ничего этого не пережившая, просто не поймет этих ужасов.
— Нет, вот уж тут я с тобой никогда не соглашусь, — встрепенулся Рукавишников. — Так говорить — значит, всю литературу на свалку. Тогда молодежь и Толстого не поймет, и Гюго, и Шекспира. Она же не переживала тех событий...
— Ш-ш, — Лида приложила ему ладонь к губам. — Развоевался Аника-воин. Спать пора. Знаешь сколько времени? А ты еще должен мне доложить, почему у тебя глаза грустные...
После того как Алексей Иванович рассказал обо всем, что произошло прошлой ночью, они долго лежали молча. Рукавишникову вдруг почудилось, что Лида не верит ему.
— Вот так и шеф... — с горечью бросил Алексей Иванович. — Даже представить не может, что у людей бывают чистые побуждения! А милиционер? Ты бы видела его ухмылку...
— О чем ты говоришь, Алеша! — тихо сказала Лида. — Ты испугался за себя? Сделал доброе дело и теперь возмущаешься, что на тебя посмотрели косо, вместо того чтобы поблагодарить за христианский поступок. А про девочку ты подумал? Про ее родителей? Ой, как страшно, Алеша, ой, как страшно! — в голосе у нее было столько горечи и сожаления, что у Рукавишникова заныло сердце. — Ты говоришь, совсем молоденькая? Наверно, попала в лапы к какому-то подлецу. Мы все в этом возрасте доверчивые... Эх, Алеша, Алеша, — она притянула Рукавишникова к себе, обняла крепко, и он почувствовал на ее щеках слезы. — Всю жизнь ты прожил «половинкиным» сыном — сделаешь что-нибудь и тут же оглядываешься: правильно ли тебя поняли. А ты без оглядки, Алешенька, без оглядки, милый. Тебя женщины больше любить будут...
Лида говорила с ним ласково, мягко, как с маленьким, и вот удивительное дело — он даже не обижался на ее слова, от которых в другое время вспылил бы, наговорил ей массу колкостей. Он и не принимал и не отвергал ее обвинений, он словно бы оставлял их на «потом», а сейчас ему было хорошо с ней и не хотелось ни о чем думать. Ни о редакторе с его подозрениями, ни о предателе Возницыне. Не хотелось ему думать и о том, что произошло вчера ночью в его квартире...
На следующее утро, в коридоре редакции, Рукавишников столкнулся с Соленой. Еще издали завидев его, она резким движением отвернула свою крашеную, в мелких кудряшках голову в сторону и гордо, словно солдат на параде, прошествовала мимо, не ответив на приветствие.
Алексей Иванович невесело усмехнулся: уже обо всем знает! Только что секретарь редактора Зина передала Алексею Ивановичу телефонограмму из районной прокуратуры. Его просили прибыть к следователю Миронову в девятую комнату. Алла Николаевна, как всегда, верна себе. И в отношениях с людьми и в отношении к искусству она умела перестраиваться. Разнеся в пух и прах какой-нибудь новый спектакль, она через неделю могла написать восторженный отзыв на него же. Если было указание... Но уже под псевдонимом...
И самое печальное состояло в том, что над Соленой только смеялись. Она же продолжала процветать, готовая дважды в сутки переменить свою точку зрения.
В первые годы работы в редакции Алексей Иванович пробовал как-то бороться с беспринципностью этой женщины, пытавшейся на страницах газеты утвердить эстетическую всеядность. Выступал на партсобраниях, на летучках. Многие хвалили его за смелость, но, смеясь, предрекали: «Старик, не ты один пробовал бороться с «соленизмом», но Алла и ныне здесь...» И Рукавишников махнул рукой. Лишь иногда позволял себе в кругу друзей или на летучке позлословить на ее счет.
В редакции, наверное, не было ни одного человека, который не знал бы о несчастье. Оленька Белопольская явно перепугалась. Она ни о чем не спрашивала Алексея Ивановича, но за ее чуточку наигранной бодростью и подчеркнутой внимательностью он чувствовал и тревогу, и, как ему показалось, любопытство.
Заместитель главного редактора, столкнувшись с Рукавишниковым в коридоре, взял его под руку и задержал на несколько секунд у окна:
— Ты, Алексей, не теряй присутствия духа. Уговаривать, конечно, легко... — Кононов постучал своим здоровенным кулаком по подоконнику. — Но знай главное — мы тебя в обиду не дадим.
Рукавишников молча пожал плечами. Говорить-то было нечего. Кононов понял это движение по-своему.
— И о разговоре с шефом я знаю... Он тоже переживает. Все, Алексей, уляжется.
Перед тем как поехать в прокуратуру, Рукавишников заглянул в секретариат, сдал материалы в номер, Горшенин ничем не выдал своей осведомленности о происшествии. Он был, как всегда, ровен и сдержан, говорил только о деле, и, когда Алексей Иванович сказал, что идет в прокуратуру, а дежурить по номеру оставляет Белопольскую, даже не поинтересовался, зачем нужна ему прокуратура.
«Не хочет проявить своего отношения? — подумал Рукавишников. — Чтобы не попасть впросак?» И тут же отогнал эту мысль. Так можно начать подозревать каждого.
Пожилой, с хмурым бледным лицом следователь показался Рукавишникову сухарем. Гладко зачесанные назад редкие светлые волосы и большой выпуклый лоб придавали всему его облику какой-то бесцветно-болезненный вид.
— А я пытался дозвониться до вас вчера вечером, — сказал он, приглашая Рукавишникова садиться. — Меня зовут Игорь Павлович.
— Я не ночевал дома. Не могу себя заставить туда пойти...
— Понимаю... Такая история хоть кого выбьет из колеи, — он внимательно, не скрывая этого, присматривался к Рукавишникову. Потом раскрыл тоненькую серую папку, полистал ее.
— Алексей Иванович, вы ведь журналист, память у вас должна быть цепкая к деталям... Вспомните, о чем говорила вам Лариса? Вспомните, как говорила? Может быть, какие-то специфические словечки, неправильное ударение... Видимо, девушка не ленинградка. Ни в городе, ни в области пропавших без вести нет. Пока нет.
— Она так мало говорила... — нерешительно произнес Рукавишников, стараясь припомнить каждое слово Ларисы, и все события того вечера ясно всплыли в памяти. — Когда я пытался расспросить ее на улице, девушка сказала: «Ну что привязался, дяденька?» Я удивился: уже не девочка, а назвала «дяденькой». А выговор у нее был правильный. Я думал, она ленинградка.
— Когда девушка пошла в ванну, вам не пришлось объяснять ей, как включать воду?
— Нет.
— Во время предварительного дознания вы заявили, что видели у нее на теле кровоподтеки. И платье на девушке было разорвано...
Рукавишников почувствовал, как у него к лицу приливает кровь.
— Да. Когда она сняла пальто, я увидел, что платье разорвано. И потом в ванной. Я относил ей полотенце...
— У меня, Алексей Иванович, нет оснований сомневаться в вашей искренности, — сказал следователь. — Вы не дослушали мой вопрос. Я хотел лишь уточнить одну деталь — вы увидели разорванное платье, а рубашка, комбинация была на девушке?
— Нет... Я бы, наверное, увидел...
— Для нас сейчас важна каждая мелочь. Платье на девушке было финское. Такие продавали в Ленинграде и отправили еще в несколько областных городов. Мне обещали сообщить в какие. Будем и там искать...