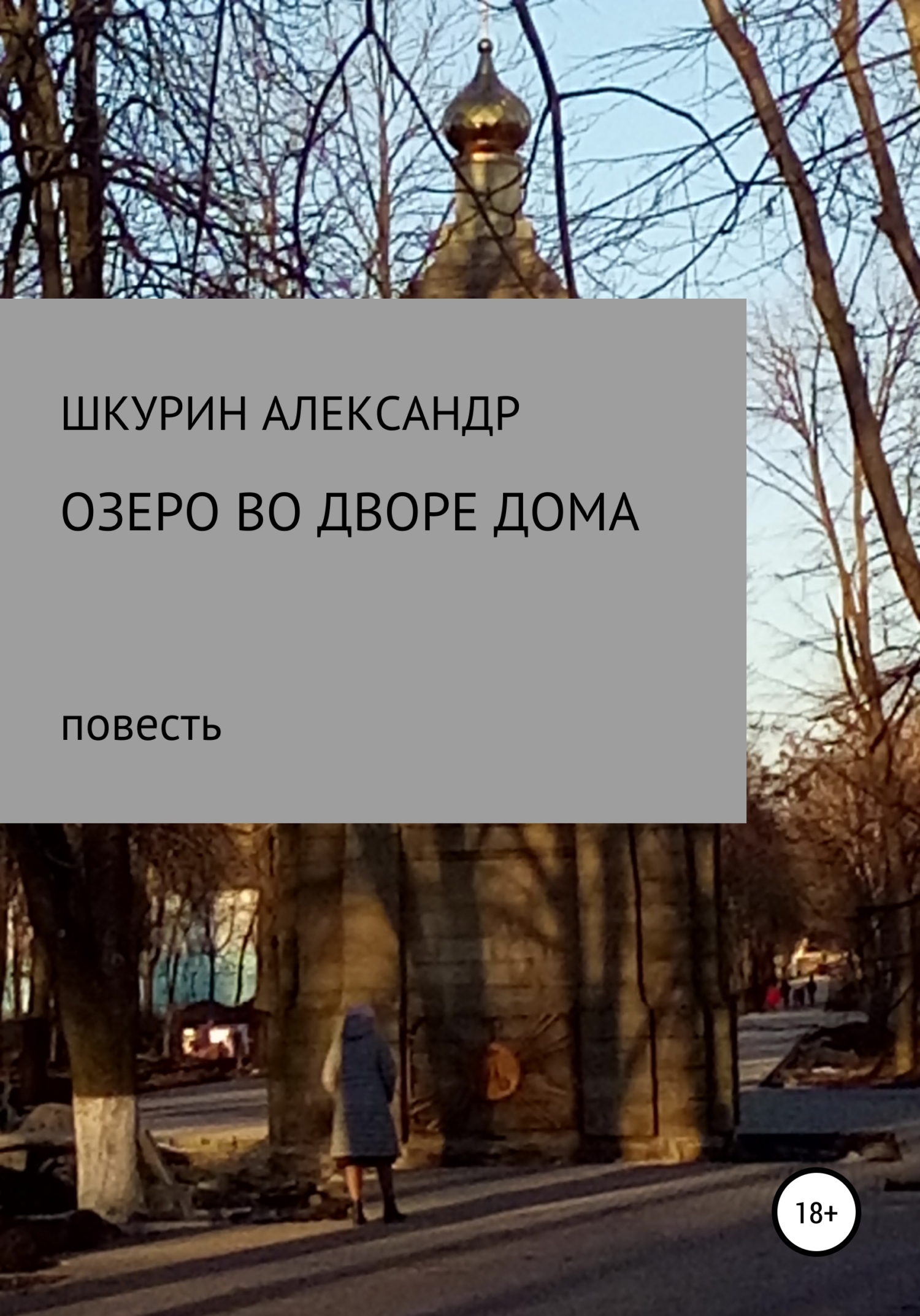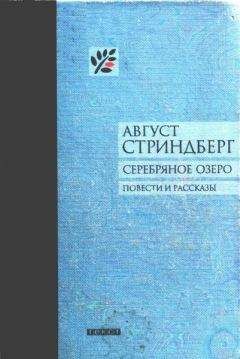от её же проблем.
В этот раз он решил отправиться один, без чичероне, в разрушенную часть города, о которых столь много наговорили ужастей. Разрушенная часть города встретила его разморенной осенней тишиной, жужжанием ошалелых осенних мух, запахами запустения и сырости. Природа – великий комбинатор, она категорически не терпит пустоты, там, где раньше были горы строительного мусора, выросли молодые побеги тополей, акации, сирени. Еще зеленый плющ заплел оконные провалы, пышно задекорирован дело рук обыкновенной человеческой варварости. Еще на фронте он удивлялся, почему надо обязательно загаживать все вокруг, а не оставлять неприкосновенными те куски природы, где человек не воевал. Еще здесь было необыкновенно тихо, как на минном поле или на кладбище, скорее как сельском мирном кладбище. Не хватало только козъих с раздутым белым выменем от сочной кладбищенской травки.
Заброшенное тихое место. Любое кладбище днем выглядит сонным и умиротворяющим. Только по ночам упыри вылазят из могил и ищут юных дев, чтобы напиться свежей кровушки. Но все это из готической литературы прошлого. В настоящем, сухом остатке имеет заброшенное место техногенной катастрофы. Люди, забра самое ценное, решили съехать отсюда. В самом деле, кому понравиться в один прекрасный момент провалиться в рукотворную преисподнюю, вырытую руками их дедов и отцов, которое за скорешейшее выполнение плана еще получали государственные награды? Не ему судить дела предков. Он приехал сюда с другой целью и давно бы уехал отсюда, если бы непонятная нераспорядительность его шефа. Он шел от одного здания к другому, и везде были запустение, тлен и тихая мольба пока непонятно о чем. Даже провальцы выглядели живописно, поросшие молодой ракитой, затянутой ряской и кувшинками. Как-то не верилось, что в этих провальцах бесследно сгинули друзья так и неназвавшей себя рыжухи, а местные оборачиваются аксолотлями и заманивают гулпых приезжих на глубину, где безжалостно топят их. Лау почувствовал зуд в кончиках пальцев. Он ведь и сам из водоплавающих и с удовольствием бы пустился в подводное путешествие, чтобы поиграть в прятки с местными, но прекрасно понимал, что это поле боя осталось бы за местными, хорошо знающему местные ухоронки. Проигрывать он не любил. Ему хотелось найти пресловутое озеро во дворе дома, о котором узнал с самого приезда и которое, как уверял чичероне-бомж, местная достопримечательность, которой нет. Вот в этом бы озере в теплой прохладной воде он бы поплескался с удовольствием, отвел свою водоплавающую сущность. Душ в гостинице – это эрзац для понимающего человека. Какие ужасти ему рассказала рыжуха про брошенные дома и провальцы, но ей можно, она будущий писатель, который не продаст свой залежалый товар, если не обернет его в нечто ужасное и страшное. На самом деле – тихий осенний день, температура воздуха – плюс 18, как это непохоже на проморзглую москвабадскую погоду. Чего эти мигранты так прутся в неё? В надежде заработать? Действительно, нет ничего южнорусской провинции с долгущей теплой осенью, когда еще в ноябре тепло, зима и не думает опускать свои вьюжные саваны на столь благословенную землю, а каков певучий суржик! Эта не масквабадская тарабарщина, жалкие ошметки от русского языка, когда приезжий с ужасом не понимает, о чем ему пытаются донести. Эх, если бы не контора с хорошим заработком, перебрался бы сюда на юга, завел бы себе хохлушку с чорными дивными очами и характером, что порох, держащей всегда в руках скалку, чтобы перетянуть по случаю нерадивого муженька, что не обидится, а только почешется. Даже его немецкая составляющая в радостном предвкушении загоготала: я, я, куры, матка, млеко. Заткнись, немецкая морда, усмехнулсяон. Ты зачем сюда забрал: искать озеро во дворе дома. Ищи, Трезор по кличке Лау, хорошо ищи.
Впрочем, долго искать не пришлось. В очередном проулке неожиданно блеснула бледно-голубая синь воды. Сердце у Лау забилось в предвкушении. Неужели это то самое озеро – призрак, которым его пугали, наконец-то нашлось. Лау обошел вокруг озерца. Вернее, большой лужи бледно-голубой воды. Трехэтажное здание, построенное при царе Горохе, то бишь в благословенную николаевскую эпоху, было построено буквой «П», и внутри буквы «п» плескалась вода. Двери во внутренней части здания буквы «П» были забиты большими гвоздями, шляпки которых даже еще не пожелтели, а вода тихо стояла под самый фундамент каменицы. Здание отражалось в воде, оттого казалось, имело не три, а целых шесть этажей, три в воздухе, три отражались в воде. При этом три водных отражения были более реальными, чем их реальные собратья. Вода отсекала ненужные детали, выделяя и укрупняя старую кирпичную кладку, деревянные, в отслоившейся краске оконные переплеты, свинцовые стекла, в которых не отражалось даже солнечные лучи. Водные отражения каменицы покачивались в воде и жили своей, независимой жизнью. Водное отражение раскрашивала густая ряска и большие листья водяных лилий. Изредко по водной поверхности скользили жуки-плавунцы.. Лау с интересом осмотрел здание, которое не тронуло всеобщее разрушение вокруг, и ему стало интересно, остались ли в нем жильцы или его покинули, как и другие.
Зуд в пальцах Лау нарастал все сильнее, и вскоре его стало потряхивать как от слабых разрядов электрического тока, так хотелось залезть в это озеро. Берега озера были пологими, но потом резко обрывались вниз и не просматривались в плотной голубой воде. Озеро казалось глубоким. Интересно, назвали как-нибудь это озеро, или оно так и осталось безымянным озером во дворе дома. Однако ему вряд ли придется узнать, слишком местные слишком пугливые. Лау прошел от одной стороны озера, уперся в торец здания и прошел до другого торца здания. Кирпич под лучами осеннего солнца нагрелся, и казался живым пластичным, стоит еще дольше продолжать гладить его, как заструится между пальцами как пластилин. Казалось, дом пребывал в глубокой спячке. Лау прислонился ухом к стене и почувствовал, что каменица грезит о своей судьбе-кручинушке. Ах, как надоело ему стоят на одном месте уже целый век! Дом знал, он видел печальную участь соседних зданий и до последнего момента оттягивал возможность своего разрушения. Его потянуло к перемене мест, захотелось превратиться бабочку, в птицу; дом еще не решил, но уже точно понял, что больше не может стоять и служить прибежищем для людей, которых становилось все меньше, и если выносили ногами вперед одно поколение, другое поколение дробно и настойчиво, гремя каблуками, тут же занимали освобожденные места. Детские голоса, как и птичий гомон не переводился возле дома, а в доме неугомонные жильцы пилили, строгали, переносили с места на места мебель.. Сейчас детских голосов не осталось, а вездесущие воробьи однажды поднявшись крупной статьей, благоразумно перекочевали в другое кормовое место, в