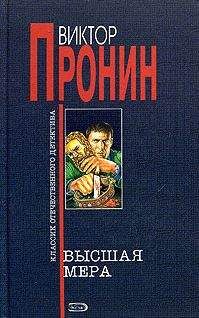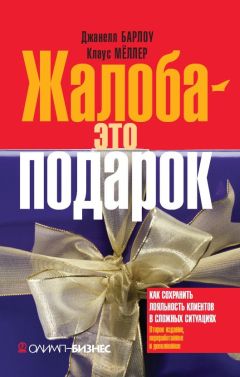Он спускался со второго этажа маленькой гостиницы, приветствовал хозяина, его детей, жену - все работали здесь же, все были рады любому гостю. И они приветствовали бородатого гиганта, который проходил по вестибюлю и возвращался поздним вечером такой же улыбчивый и молчаливый, разве что пьяный.
И наступил, наступил день, когда Апыхтин сказал хозяину, что ему требуется такси.
- Троодос, - сказал он и показал рукой куда-то за горизонт.
- О! - Хозяин восторженно закатил глаза и простонал: - О! Троодос!
И склонил голову в почтении перед человеком, который решился ехать на Троодос.
Машина была готова через пятнадцать минут - открытый белый «мерседес». Водитель, племянник хозяина, чем-то неуловимо на него похожий, был столь же почтителен и так же восхищен.
- О! - воскликнул он радостно. - Троодос! - И, кажется, сам был счастлив оказаться наконец в этом потрясающем месте.
Бросив сумку на заднее сиденье, Апыхтин сел рядом с водителем и показал рукой вперед. Поехали, дескать. И белая открытая машина рванула с места.
Не замутненное даже дымкой солнце било в глаза Апыхтину, нестерпимо синее море сверкало справа, совсем рядом, теплый, настоянный на неведомых травах воздух бил в лицо. Воздух этот, его какая-то ласковая настойчивость, с которой он обдувал все тело, напоминали Апыхтину Крым, Коктебель, да и море, если уж быть откровенным, не слишком отличалось от Черного. Чувство узнавания еще более усиливало праздничность этого утра, этой поездки.
И пора, пора сказать наконец о главном - с Апыхтиным начали происходить какие-то странные перемены, совсем не те, на которые надеялся он сам или которые предполагали друзья. Однажды утром он вдруг почувствовал непомерную тяжесть своей бороды. Она мешала ему, он ворочался в кровати, то укладывая бороду поверх одеяла, то засовывая ее под одеяло, и наконец, не выдержав, встал, оделся и вышел из гостиницы. Незнание языка нисколько не мешало, не доставляло ни малейших хлопот или неудобств.
Парикмахерская была еще закрыта, хозяин поливал тротуар перед входом и, заметив, что гость не прочь войти, тут же пригласил его жестом широким, улыбкой радушной и приветливой. Апыхтин уселся в кресло, ухватил свою бороду в кулак, а пальцами другой руки воспроизвел движения ножниц. Дескать, бороду надо срезать. И показал, сколько оставить - около сантиметра.
Парикмахер обрадовался так, будто дело касалось его самого, будто это он избавляется от громоздкой и до смерти надоевшей бороды.
Щелкнув несколько раз в воздухе звонкими ножницами, он принялся за работу. Правда, несколько раз опасливо посматривал в зеркало на Апыхтина, стараясь заглянуть в глаза: не слишком ли он размахался своими ножницами, не коротка ли борода получается?
Но Апыхтин лишь успокаивающе кивал головой - давай, не робей. Слишком многое изменилось в его жизни, чтобы, как и прежде, величественно и самодовольно носить такую бороду. Она уже не вписывалась в его внутреннее состояние, в отношение к миру и к себе. Дурацкой какой-то показалась ему борода однажды утром, выспренней и ненужной.
Когда совсем короткая бородка окончательно оформилась и парикмахер начал совершать уже чисто символические взмахи ножницами, Апыхтин показал ему и на голову - дескать, и здесь надо поработать. Парикмахер опять обрадовался и в пятнадцать минут совершенно преобразил прическу банкира. Апыхтин смотрел на себя в зеркало с неподдельным изумлением - вся его величественность исчезла, перед ним сидел молодой парень с сильной открытой шеей.
Закончив работу, парикмахер отошел в сторону и замер в восхищении - даже он, мол, не ожидал столь разительной перемены, столь потрясающего результата, не ожидал, что его клиент так молод и прекрасен.
- Вот так-то, брат, - сказал Апыхтин, поднимаясь из кресла и сдергивая с себя простыню с остатками волосяной роскоши. Он принял себя обновленного сразу и без сомнений. Пришло спокойное ощущение, что сейчас он именно таков, каким должен быть в своем истинном облике. Случилось с ним еще одно превращение. Сразу, наутро, едва выйдя из своего номера, он вдруг остро почувствовал собственную неуместность здесь. В своем темном костюме, при галстуке, он почувствовал себя скованным и глупым.
И Апыхтин в первой же лавке купил светлые полотняные штаны, кожаные босоножки, несколько маек с пальмами, обезьянами, ослами на груди, купил кепку с громадным козырьком, который, кажется, чуть ли не на полметра выступал надо лбом. Свой же костюм запихнул в пакет, сунул в сумку и задернул «молнию».
Он сменил даже очки - вместо тяжелой черной оправы, которая вызывала трепет у всех посетителей банка «Феникс», подобрал совсем легкие, в тонком золотом обрамлении.
Не каждый, далеко не каждый из прежних его знакомых узнал бы его теперь. Скорее всего совсем не узнал бы и равнодушно прошел бы мимо.
Со своим новым обликом Апыхтин сжился сразу, и сразу же пришло ощущение, что все идет правильно и разумно. Непреходящая, глухая боль в груди, от которой он спасался в параллельном мире, поутихла, сделалась вполне терпимой. Она напоминала о себе, не уходила совсем, но теперь ее можно было терпеть, с ней можно было жить.
И когда Апыхтин уселся в белый «мерседес» с открытым верхом, это был совсем другой человек, нежели тот, который приехал сюда несколько дней назад. Он не стал разговорчивее, не заводил друзей, не кутил в развеселых компаниях соотечественников, но постоянно пребывал в затаенно-улыбчивом состоянии и, казалось, все дальше уходил от прежнего своего мира.
- Афродита! - радостно закричал водитель, показывая на небольшую бухту, которая вдруг открылась из-за поворота.
- Что - Афродита? - Апыхтин не понимал, чему радуется этот грек, почему горят его глаза, впрочем, глаза у него горели постоянно.
- Афродита! - повторил водитель еще более радостно и пальцами показал как бы человека, идущего со стороны моря.
И Апыхтин понял.
Здесь возникла из пены морской красавица Афродита, вышла на этот вот берег, на этот песок, к этим скалам сколько-то там тысяч лет назад. Вышла вся в морских брызгах и навсегда осталась первой красавицей земли.
- Стоп! - сказал Апыхтин и, покинув машину, легко сбежал к морю по крутому откосу.
Было рано, туристы еще не успели заполнить небольшой пляж. Апыхтин оказался здесь в полном одиночестве. Он прошел по песку, оглянулся по сторонам, и опять что-то щемяще напряглось в душе, пришло ощущение, что он узнает, узнает эти места. Через какие-то мгновения понял - все здесь страшно похоже на бухту в Коктебеле, где он был с…
Не важно, не важно, остановил свои воспоминания Апыхтин. В Коктебеле такая же бухта называлась проще - Лягушачья. Там тоже когда-то, в доисторические времена, при извержении вулкана громадные глыбы гор отрывались где-то в поднебесье и скатывались в море. Апыхтин разделся и не раздумывая бросился в воду, в прозрачно-голубые волны, из которых когда-то вышла Афродита, из которых - кто знает, кто знает - может быть, она до сих пор выходит каждое утро. У Апыхтина было такое чувство, что Афродита прошла по этому песку совсем недавно и он вполне мог застать ее, если бы водитель выехал чуть пораньше.
Дорога на Троодос оказалась точной копией дороги из Коктебеля в Ялту. Те же подъемы, то же море, которое казалось все время рядом - за верхушками деревьев, за поворотом, за распадком. Апыхтина не покидало ощущение, что он просто вернулся, просто вернулся в те места, где когда-то ему было хорошо и счастливо.
Потом была церковь, совершенно новая, но построенная по законам, по рисункам и чертежам давних времен. Потом могила Макариоса, монастырь и наконец, о боже, наконец-то, монастырская столовая, где Апыхтин сидел за длинным столом со съехавшимися со всего света гостями. Он с утра ничего не брал в рот, ожидая того счастливого мига, когда монах в черной рясе выйдет из узкой двери и поставит на стол знаменитую самогонку, ради которой он и приехал на остров, ради которой затевал поездку и готовился к ней чуть ли не год.
Появился монах и поставил перед Апыхтиным большую бутылку из зеленоватого стекла. Форма у бутылки была самая обычная, простая, до боли знакомая форма, к которой он привык у себя на родине и которую в своей банковской жизни стал уже забывать.
Рюмки оказались небольшими. Апыхтин наполнил свою до краев, передал бутылку дальше. Ему не хотелось ни с кем чокаться, произносить тосты, поднимать чарку и радостно сверкать глазами. Не хотелось. Отвык он за последнее время чокаться, это казалось ему совершенно ненужным. Он приблизил чарку к лицу, вдохнул и как бы сказал себе: «Вот оно, свершилось…»
И выпил.
Самогонка оказалась хорошей. Он боялся момента, когда придется выпить глоток, боялся, что окажется самогонка слабоватой, тепловатой, мутноватой, но, слава богу, все эти опасения отпали сразу. Самогонка была крепкой, градусов пятьдесят, не меньше, она была прозрачной и в меру охлажденной.