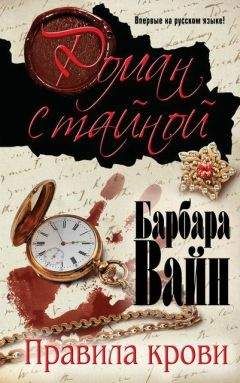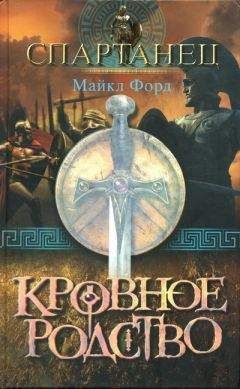Такой была семья — дед, отец, мать, сын и две дочери, — которая, вне всякого сомнения, с раскрытыми объятиями встретила Генри, когда он начал приходить с визитами в июне 1883 года.
В июле Джимми Эшворт была уже на втором месяце беременности. Если Генри раньше мог ничего не знать, то к этому времени уже знал. Что он чувствовал, думая о предстоящем событии: радость, благодарность, раздражение, угрозу, или ему было безразлично? Я нисколько не сомневаюсь в последнем. Джимми была уступчивой, покорной и благодарной — у меня нет никаких причин считать иначе. Самостоятельная женщина не стала бы терпеть Генри целых девять лет. Джимми была для него удобной. Вне всякого сомнения, он считал — и продолжал считать — ее очень привлекательной. Вне всякого сомнения, у нее он находил утешение, комфорт, отдых, что составляло полную противоположность остальной его жизни — Палате лордов, больнице, работе. Однако он никогда ее не любил. По всей видимости, к тому времени Генри испытывал подобное чувство к Элинор Хендерсон. Требовалось обеспечить содержание Джимми и найти отца ребенку. С Оливией он мог сохранить отношения с Джимми. Элинор была другой, и с ней его связывали серьезные отношения.
Последняя пентаграмма в дневнике появляется 15 августа 1883 года. Возможно, это была последняя встреча Генри с Джимми Эшворт, но, скорее всего, нет. Вероятно, он еще несколько раз возвращался на Чалкот-роуд: представить Лена Доусона, отдать распоряжение о свадьбе, вручить кругленькую сумму. По свидетельству «Таймс», где появилось объявление, Генри обручился с Элинор в четверг, 23 августа. Я представляю, как рассудительный Генри, благопристойный Генри, в среду последний раз наслаждается любовными утехами с Джимми Эшворт, потом в пятницу приезжает с визитом на Кеппел-стрит, чтобы продолжить ухаживание за мисс Хендерсон, возвращается в ближайший понедельник, делает предложение Элинор и, получив согласие, во вторник официально просит у отца руки дочери, а в четверг публикует объявление о помолвке в газете. До той поры в дневнике об этом нет и намека. В пятницу 24 августа появляется следующая запись: «Вчера в “Таймс” появилось сообщение о моей женитьбе на мисс Хендерсон». Завидное хладнокровие. Генри обеспечивает будущее матери своего ребенка, устраивает ее брак с больничным носильщиком — и одновременно готовится к собственной свадьбе, не говоря уже об обязанностях лейб-медика королевы и чтении лекций. Деловой Генри.
Тем не менее вопрос остается, и я должен найти на него ответ. Зачем ему, черт возьми, жениться на дочери не слишком успешного адвоката, без «настоящих» денег и перспектив, когда он мог получить Оливию Бато? Ведь, по всей видимости, Оливия любила его? Красивая, богатая — и явно принадлежащая к тому типу женщин, которые ему нравились? С отцом-баронетом, владеющим особняком в деревне и семью сотнями акров земли, и не скрывающим, что в качестве свадебного подарка он мог дать тридцать тысяч? Недостаточно сказать, что Генри влюбился, а любовь и бухгалтерия — вещи несовместимые. Предположение, что Элинор была не только хорошенькой — довольно милой, но «не сравнить» с сестрой, — но также умной, очаровательной или остроумной, не дает ответа на вопрос, как и утверждение, что мой прадед влюбился и ему ничего не оставалось, кроме как жениться. Он был мужчиной среднего возраста, опытным, который девять лет содержал любовницу. И он потерял голову от хорошенькой девушки, которой до него не интересовался ни один мужчина?
И почему он, такой сдержанный во всем остальном, отмечал любовные свидания с Джимми Эшворт пятиконечной звездочкой?
Джуд беременна. Она сказала мне утром, в десять.
Сегодня второй понедельник мая, и Джуд работает дома. Обычно это означает, что она встает чуть позже, но только не сегодня. В половину восьмого жена уже была в душе, потом принесла мне чашку кофе и сообщила, что ей нужно в аптеку.
— Раньше половины десятого они не открываются, — заметил я и спросил, к чему такая срочность.
Она не ответила и сделала вид, что ищет что-то в ванной. Я очень хорошо изучил свою жену и знаю, что у нее на уме. Если я задаю вопрос, а отвечать она не хочет, то предпочитает не лгать, а поспешно удалиться, словно вспомнила о каком-то забытом деле. Но зачем ей лгать? Я мыл посуду после завтрака, за собой и за Джуд, когда услышал, как она вернулась и сразу же пошла наверх. Это случилось приблизительно через полчаса. Дэвид прислал мне связку найденных его матерью писем от моей двоюродной бабушки Элизабет Киркфорд, и я сидел в кабинете, пытаясь разложить их в определенном порядке, когда вошла Джуд. Ее лицо пылало. Она выглядела потрясающе. Тогда она и сказала:
— Я беременна.
В аптеку Джуд ходила за тестом на беременность. Месячные задерживались уже на десять дней, и ждать у нее больше не было сил. Я вскочил, обнял ее, и мы стали целоваться. Я хотел сказать, что никогда не был так счастлив, но это не так — был, в прошлый раз, и в позапрошлый. Никаких слов не прозвучало — ни тревоги, ни всепоглощающей радости. Я забыл о работе, и она тоже. Мы вернулись в постель, любили друг друга, а потом лежали рядом, крепко обнявшись, и я позволил ей излить свое волнение, слушал ее, говорил, что это чудесно, что это лучшее, что могло случиться, и мы смеялись от радости, а потом встали, и я повел ее на обед в ресторан, чтобы отпраздновать.
Мне все это не очень нравится, но я понимаю, что единственная надежда нашего брака — ребенок. И я знаю, что если у Джуд не будет ребенка, вся ее жизнь станет блеклой, пропитанной горечью, несчастной; она всегда будет хотеть детей и всегда чувствовать, что лишена счастья материнства, что она не настоящая женщина. Но в глубине души я не хочу ребенка. Мой эгоизм непомерен, хотя и безвреден, пока я не выпускаю его на свободу — а стараюсь держать его в узде. Я мерзок. Мне не нужен ребенок, который плачет по ночам и требует внимания днем. Я знаю (в отличие от Джуд), потому что проходил все это с Полом. А поскольку именно я работаю дома, то на меня взвалят обязанности по уходу за ним, а если у нас будет няня — ее придется нанимать, — то ответственность все равно ляжет на меня. Я не хочу пеленок, бутылочек, бессонных ночей и жутких, загадочных болезней, которым подвержены маленькие дети, когда ты сходишь с ума от тревоги и сломя голову несешься в отделение неотложной помощи. Ты любишь ребенка, разумеется, любишь и поэтому не можешь ему помочь. Он сует пальцы в розетку, сбрасывает с плиты кастрюли с кипятком, падает со своего высокого стульчика. Тринадцать лет его нужно отвозить в детский сад и школу и забирать домой. Пока ему не исполнится шестнадцать. К тому времени мне уже перевалит за шестьдесят, и я буду хотеть отдыха и немного покоя.
Но, изображая радость — и я действительно радовался за любимую жену, — я также обещал себе, что она никогда не узнает, не увидит и не услышит ни малейшего намека, что моя радость хотя бы немного уступает ее радости. Я буду счастлив, буду ликовать и притворяться глупым будущим отцом, который хвастается друзьям, что скоро у него в семье появится пополнение. Я буду не меньше Джуд волноваться, чтобы она выносила ребенка полный срок, следить за тем, чтобы она принимала фолиевую кислоту, не употребляла алкоголя, делала специальные упражнения, отдыхала, правильно питалась. Рискуя показаться занудным, я буду заводить, когда Джуд устанет, разговоры о выборе имени, об украшении детской и крестильных сорочках, о том, нужна или не нужна детская коляска, о том, что маленький ребенок не должен спать на животе. В этих вещах я буду еще глупее своей жены, а когда придет время, стану заботливым родителем, как Джемайма Паддлдак[29]. А возможно, по прошествии нескольких месяцев сила мысли и решимость изменят меня и заставят ждать рождения дочери или сына с той же радостью, что и Джуд.
Хорошо бы.
Сегодня, 11 мая, четвертый день рассмотрения в комитетах законопроекта о реформе Палаты лордов, и мы должны обсуждать поправку Уитерилла. Ту, что предлагает сохранить в Парламенте 92 из 750 наследственных пэров. Предложение следующее: лейбористская партия избирает 2 человек, консерваторы — 42, либеральные демократы — 3 и независимые депутаты — 28. Предлагается также избрать 15 наследственных пэров, согласных занимать различные должности — то есть представлять лорд-канцлера и председателя Палаты лордов. Вместе с граф-маршалом и лордом обер-гофмейстером получается 92.
Вне всякого сомнения, я застряну здесь до самого вечера, и это очень кстати — сегодня сюда на ужин приглашены Крофт-Джонсы. Джорджина Крофт-Джонс на седьмом месяце беременности. Я говорю себе, что счастливо отделался, и размышляю, что чувствовал бы, не сообщи мне вчера Джуд радостную новость. Обе женщины заявляют, что не будут пить алкоголь; Джорджина заказывает особый томатный сок домашнего приготовления, а Джуд ограничивается минеральной водой. Жена выгладит великолепно, она помолодела на несколько лет и стала настоящей красавицей — очень похожа на портрет Оливии Бато кисти Сарджента, с такой же светящейся кожей, только чуть более розовой, и сияющими темными глазами. Один из пожилых пэров — кстати, тот самый, что сорок два года назад голосовал против допуска женщин в Парламент, — кладет ей руку на плечо и говорит, что ее вид радует его стариковский взгляд.