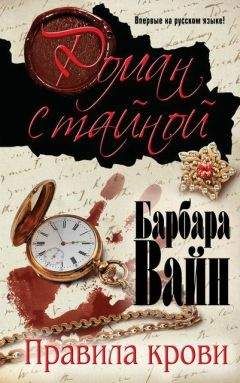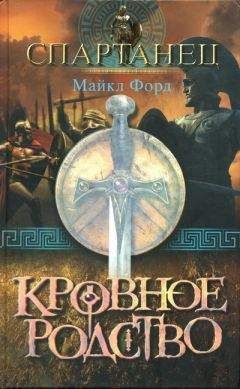По лицу Джуд пробегает едва заметная тень, и я борюсь желанием воткнуть нож в шею этой глупой женщине.
— Подхватывали пневмонию, — продолжает Джорджи, — и умирали через три недели, причем знали, что умрут, — помочь им тогда ничем не могли. Невозможно представить, правда? — Я понимаю, что передо мной любительница исторических романов, явно чувствительного свойства. — А еще они чахли, погибали от так называемой бледной немочи.
— Смерть Элинор была насильственной, — говорю я. — Нетипичной для того времени. Такое чаще случается сегодня. Ее убили.
— О, расскажите!
Я отказываюсь. Просто качаю головой и улыбаюсь. Возможно, потому что знаю: Джорджи Крофт-Джонс придет в возбуждение, скажет, что это, должно быть, сделал Генри, или выдвинет другие, столь же нелепые и необоснованные предположения. Потом объясняю, что еще не закончил исследование, хотя это неправда — я узнал все, что считал необходимым. Я не такой щепетильный, как Джуд, и допускаю «ложь во спасение», если на то есть причина. А желание избежать раздражения — это, как мне кажется, веская причина.
Мы пьем кофе. Наконец, Крофт-Джонсы спрашивают, что происходит в Парламенте. Я рассказываю, что идет обсуждение законопроекта о Палате лордов, или, как мы его называем, законопроекта о реформе. Джорджи думает, что все лишатся своих титулов, старшие сыновья утратят право наследования, а у знати отберут поместья. Никого больше не будут называть «лордом» и «леди», и все аристократы исчезнут — своего рода бескровная Французская революция. Просвещая ее, я думаю, что прежде чем мы закончим с законопроектом, вся страна будет думать примерно так же.
Похоже, Джорджи совсем не устала. Она спрашивает, куда мы отправимся потом, словно я собирался отвести их в ночной клуб. Но я устраиваю им небольшую экскурсию — показываю сокровища Парламента, в том числе смертный приговор Карлу I, который хранится под стеклом в Королевской галерее, и фрески Дайса, — рассказываю несколько забавных историй и спрашиваю, не хотят ли они пройти в зал заседаний. Джорджи очень хочет, но пыл ее несколько угасает, когда я говорю, что они с Дэвидом должны будут сесть прямо под барьером, а Джуд — слева, на местах для «супругов». Увы, таковы правила. Джорджи, которая, похоже, привязалась к Джуд, говорит, что правила пишутся для того, чтобы их нарушать. Я отвечаю, что если мы нарушим правила, то пристав удалит либо их, либо Джуд, и после этого мы идем вниз и прощаемся у входа для пэров. Дэвид обещает прислать мне генеалогическое древо, когда дойдет до следующего этапа.
Теперь в Парламенте очень тихо, и в воздухе чувствуется какое-то напряжение — все либо разошлись по домам, либо вернулись в зал Палаты лордов. Я говорю Джуд, что тоже немного задержусь и посмотрю, что там происходит, и спрашиваю, не хочет ли она домой. Жена отвечает, что останется со мной — она не устала и так счастлива, что не желает тратить время на сон. Когда мы медленно поднимаемся по величественной лестнице, устланной красным ковром, я беру Джуд за руку и очень тихо говорю:
— Я люблю тебя. Я так за тебя рад.
— Надеюсь, за себя тоже, — проницательно, слишком проницательно замечает она, и я начинаю убеждать ее, что да, конечно, и за себя тоже.
Эта история пользуется в нашей семье известностью не меньше, чем героический поступок Генри, спасшего Сэмюэла Хендерсона. Отец рассказал мне ее, когда посчитал меня достаточно взрослым, чтобы у меня не начались ночные кошмары; боюсь только, что рассказ получился с готическим оттенком, таким, каким — по всей вероятности — он услышал его от своего отца. Можете назвать это типично викторианским убийством.
В XIX веке люди предпочитали путешествовать поездом, который был единственным быстрым средством передвижения. Поезда дважды становились причиной катастрофы в жизни Генри — по крайней мере, любой другой счел бы это катастрофой. У меня нет способа узнать, что он чувствовал в этих двух конкретных случаях. Нантер довольно уклончиво пишет о смерти Элинор в своем дневнике, но не приводит никаких подробностей и тем более не распространяется о своих чувствах.
Однако я предполагаю, что эта трагедия потрясла его так же глубоко, как смерть Гамильтона в катастрофе на мосту через реку Тей. Он был влюблен в Элинор Хендерсон. Любовь — единственная причина его намерения жениться на ней. Они обручились, и свадьба должна была состояться в феврале. Думал ли Генри, помнил ли он, что именно в этом месяце Джимми Эшворт должна была родить ребенка? Неизвестно. Обручальное кольцо, которое Генри подарил Элинор, теперь принадлежит моей сестре Саре — не слишком изящное украшение, с бриллиантами, наполовину утопленными в массивный кусок золота. Его сняли с пальца Элинор перед похоронами, а потом оно каким-то образом вернулось к Генри и стало обручальным кольцом Эдит.
Эта вещь перешла к моей ветви семьи. Мой дед Александр знал о кольце и передал его своему сыну. Подтверждение пришло из письма Мэри Крэддок к ее сестре Элизабет Киркфорд. Ее мать Эдит рассказала ей, что кольцо, которое она носит, принадлежало Элинор. Эта информация была окружена всякой чушью — возможно, сочинения Мэри, а не Эдит — о святости первой любви Генри и о желании самой Эдит носить кольцо, чтобы они с Генри никогда не забывали о погибшей сестре, которая соединила их. Это одно из возможных объяснений. Другое состоит в том, что Генри каким-то способом вернул себе кольцо, не видя смысла тратиться на новое. Экономный Генри.
Ближайшим родственником Хендерсонов, если не считать членов семьи, была единственная сестра Сэмюэла, Доротея. Генеалогическая таблица, составленная Дэвидом Крофт-Джонсом, свидетельствует, что у Луизы Хендерсон, матери девочек, была сестра, а также брат, умерший в семилетнем возрасте. Естественно, они носили фамилию Квендон и были детьми Уильяма Квендона и его жены Луизы, урожденной Дорнфорд. По своему социальному положению Доротея Винсент была несколько выше Хендерсонов. Обеспеченная вдова, она жила с двумя дочерями в деревне Манатон, в графстве Девоншир, в поместье своего умершего мужа. Она была крестной матерью Элинор и поддерживала с ней более близкие отношения, чем с другими детьми Хендерсонов. Элинор обычно гостила у нее две недели в конце лета, сначала с матерью, потом с сестрой Эдит. В том году она всего лишь второй раз поехала одна.
Большую часть сведений о злополучном визите и его последствиях я почерпнул из газет. А отношения между людьми выбрал — по-моему, это самое подходящее слово — по крупицам из вороха мякины, то есть из писем матери и бабушки Дэвида. К сожалению, в них нет почти ничего о том, что думали и чувствовали люди — только шок от «ужасной трагедии» и размышления Вероники, что если бы не смерть Элинор, их не было бы на свете.
Обычно Элинор приезжала к тетке в августе, но в 1883 году имелась веская причина отложить визит. Возможно, она планировала поездку, но затем отложила ее, когда стало ясно, что Генри сделает ей предложение. Элинор отправилась в путь в начале октября, поездом Большой западной железной дороги, который ходил и продолжает ходить от вокзала Паддингтон до Пензанса; путешествовала она в первом классе. В 1883 году уже существовали купе только для дам, но не на этой железной дороге. В Ньютон Эбботе она пересела на местную ветку до Мортонхемпстеда и вышла в Бови Трейси, который в те времена назывался просто Бови. На станции ее встретила тетя, с пони и бричкой. Должно быть, для Элинор эти визиты были приятной сменой обстановки, возможностью уехать из Лондона с его зимними туманами, жарой и пылью летом. В те дни, да и сегодня тоже, деревня Манатон располагалась в живописной местности, на краю плато Дартмур, с высокими скалистыми холмами, глубокими зелеными долинами и реками, полными форелью. Дом у тети Доротеи был роскошнее, чем у них, на Кеппел-стрит. Тетя держала кухарку, двух горничных и двух садовников. Семья ни в чем не нуждалась. Удобная бричка, запряженная пони, возила их по окрестностям, а вокруг Мор-Хауса было много красивых мест для пеших прогулок. Элинор дружила с двоюродными сестрами и во время визита намеревалась пригласить их на свадьбу в качестве подружек невесты.
Бракосочетание назначили на 14 февраля, день Св. Валентина, хотя в XIX веке это не был праздник влюбленных — не то что сегодня. Обстоятельства сложились так, что свадьба не состоялась, и поэтому тот факт, что Джимми Эшворт родила дочь Мэри 13 февраля, уже не столь важен. Джуд, которая теперь с радостью обсуждает всех младенцев и предпочитает разговоры о детях любым другим, говорит, что перспектива появления ребенка должна была сильно подействовать на Генри. Наверное, он чувствовал вину, а также радостное волнение. Разве мог он просто отвернуться от своего ребенка?
— Не думаю, что тогда мужчины чувствовали то же самое, — возражаю я. — Граница между приличной женщиной и дурной женщиной с тех пор так сильно размылась, что это трудно представить, но в восьмидесятых годах девятнадцатого века она была очень четкой. Детей от законной жены и незаконнорожденных, или внебрачных, детей разделяла настоящая пропасть. Генри мог дать Джимми денег, возможно, в виде постоянного дохода мужа. Не исключено, что Нантер также поставил условие: он никогда не будет видеть ребенка или слышать о нем. И о его существовании ни в коем случае не должна была узнать его жена.