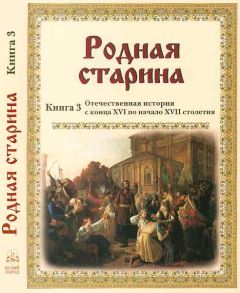— Что вам угодно? — спросил он.
— Та дама, — сказал Флавьер, — дама в сером, кто она?
— Та, что только что поднялась наверх?
— Да. Как ее зовут?
— Полина Лажерлак, — произнес мужчина с ужасным марсельским акцентом.
Вернувшись, Рене застала Флавьера в постели.
— Как ты себя чувствуешь? — спросила она.
— Получше. Собираюсь вставать.
— Почему ты так на меня смотришь?
— Кто, я?
Он попытался улыбнуться и отбросил одеяло.
— У тебя какой-то чудной вид, — настаивала она.
— Да нет же. Тебе кажется.
Он причесался, надел пиджак. Комната была такой тесной, что при малейшем перемещении они то и дело натыкались друг на друга. Флавьер не решался ни заговорить, ни продолжать молчать. Ему хотелось остаться в одиночестве, закрыть руками лицо, заткнуть уши — один на один со своей страшной тайной.
— У меня есть еще дела, — сказала Рене. — Я зашла на минутку, узнать, как ты себя чувствуешь.
— Дела?.. Какие дела?
— Ну, мне надо сходить в парикмахерскую. Хочу помыть голову. И еще купить чулки…
Мытье головы, покупка чулок — все это реальные вещи. В этом было что-то успокаивающее. К тому же сейчас у нее было ясное, открытое лицо — не верилось, что она способна солгать.
— Можно? — спросила ома.
Ему хотелось погладить ее, но рука дрогнула, как у слепого.
— Ты ведь не в тюрьме, — прошептал он. — Сама знаешь, что это я… у тебя в плену.
Теперь они оба молчали. Она пудрилась перед зеркалом. Флавьер наблюдал за ней, стоя у нее за спиной.
— Милый, отойди, ты мне мешаешь, — сказала она.
Волосы у нее вились возле ушей, a на виске тоненькая голубая жилка билась под напором алой крови. Жизнь притаилась в этом теле, ее выдавал тонкий неповторимый запах, и, будь глаза у него поострее, он мог бы ее увидеть — в виде сияния вокруг головы или блуждающего огонька. Он осторожно коснулся пальцем плеча молодой женщины. Оно было гладким и теплым, и он резко отдернул руку.
— Да что с тобой такое? — повторила она, наклонив лицо, чтобы подкрасить губы.
Он вздохнул. Мадлен… Рене… Стоит ли снова приставать к ней с расспросами?
— Ступай же! — сказал он. — И поскорее возвращайся!
Он попытался улыбнуться, чувствуя себя глубоко несчастным. Все его существо кричало о поражении. Он сознавал, что сейчас внушает ей жалость и поэтому она не решается уйти: так бывает совестно оставлять без присмотра безнадежного больного. Она любит его. В ее лице читалось что-то жестокое и одновременно нежное. Она подошла к нему, встала на цыпочки и поцеловала в губы. Что это было: «до свидания» или «прощай»? Он застенчиво погладил ее по щеке.
— Прости… Маленькая Эвридика!
Даже под слоем косметики было заметно, как она побледнела. Ресницы судорожно заморгали.
— Будь умницей, милый. Отдохни… Постарайся ни о чем не думать…
Она открыла дверь, в последний раз взглянула на Флавьера и помахала ему рукой. Дверь закрылась. Ручка больше не двигалась. Стоя посреди комнаты, Флавьер не отрывал от нее глаз. Наверное, она вернется. Вот только когда? Он готов был выбежать за ней в коридор, крикнуть во весь голос: «Мадлен!» Но он сказал правду. Это он был ее пленником. На что он надеялся? Запереть ее в этом номере? Следить за ней днем и ночью? Но сколько бы он ее ни сторожил, это не позволит ему проникнуть в тайники ее памяти. Истинная Мадлен свободна, но она не здесь. У Флавьера лишь ее пустая оболочка, оставленная ему из милости. Но придет день, когда разлука станет неизбежной. Их любовь чудовищна. Она обречена на гибель… На гибель!
Флавьер ударил ногой по стулу, стоявшему перед туалетным столиком. А как же гостиница, в которой она сняла себе номер? Покупки, которые она делала тайком от него? Разве не ясно, что она собирается сбежать? В этом-то нет ничего таинственного. После Жевиня у нее был Альмарьян. После Флавьера будет кто-нибудь еще… «Да я ревную! Ревную Мадлен!» — усмехнулся он. Разве это не абсурд? Он прикурил от золотой зажигалки и спустился в бар. Есть не хотелось. Не хотелось даже выпить. Он заказал коньяк, чтобы можно было посидеть в кресле. Лишь одна лампочка освещала разноцветные бутылки. Бармен читал газету. С рюмкой в руках Флавьер откинул голову на спинку и смог наконец закрыть глаза. Перед ним возник образ Жевиня. Он подло обошелся с Жевинем, а вот теперь и сам оказался в таком же положении. В каком-то смысле он сам был Жевинем. Он тоже жил с чуждой ему женщиной, которая была его любовницей — все равно что женой. Будь у него знакомый, он бы, вероятно, попросил у него совета. Будь у него друг — умолял бы его последить за Мадлен. Вот до чего он дошел… Он вновь видел Жевиня в своей конторе, слышал его голос: «Она чудная… Она тревожит меня…»
— Бармен! Еще коньяку!
Слава богу, Жевинь так никогда и не узнал всей правды. А если бы знал? Как бы он тогда поступил? Тоже стал бы пить? А может, пустил бы себе пулю в висок? Ведь истина может оказаться столь ужасна, что ум не в силах будет ее осознать, не пережив глубокого душевного потрясения, куда более опасного, чем физическое недомогание, которое вызывал у Флавьера вид бездны. И надо же было такому случиться, что именно ему, единственному из всех, выпало хранить эту тайну. Безрадостную тайну, лишь усугублявшую его страх перед жизнью. Нет, он был совершенно спокоен, ум его приобрел необычайную ясность. Он мог без содрогания заглянуть в свое прошлое. Он сам видел ее под стенами колокольни, видел кровь на камнях, изуродованное, разбитое тело. Потом Жевинь рыдал над трупом жены. Консьержка помогла ему обрядить ее бренные останки. Полицейские подвергли тело Мадлен скрупулезному осмотру. В этом отношении у него не было сомнений. Так же как их не могло быть у римских солдат, некогда игравших в кости у подножия креста. Головокружение охватывало его, когда он думал о Полине Лажерлак, покончившей с собой, когда с горячечной дрожью вспоминал слова Мадлен: «Это не больно», и особенно когда вызывал в памяти сцену в церкви и спокойную решимость Мадлен… Жизнь была ей в тягость… и она рассталась с ней. Но разве Рене жилось легче? Нет. И что же?.. От этих мыслей голова у Флавьера шла кругом, он испытывал невыносимое уныние, какую-то опустошенность, как бывает, когда пытаешься осмыслить бесконечность, то есть нечто такое, что будет продолжаться всегда — бесконечно, беспрерывно, безгранично!
— Бармен!
Теперь Флавьер уже мучился от жажды. С отчаянием он смотрел на окружавшие его темные стены, на ряды бутылок за стойкой бара. А сам-то он еще жив? Да. На лбу у него выступила испарина, руки на подлокотниках кресла пылали. Он в самом деле жив, и ум его приобрел в этот миг проницательность, пугавшую его самого. С болезненной остротой он ощущал невозможность, нелепость такого положения вещей. Он не только больше не сможет держать Рене в своих объятиях, он не решится даже заговорить с ней. Слишком велико различие между ними. Она была не такой, как он. С тех пор как он узнал о номере в той гостинице, между ними встало что-то такое, что разрушало их привязанность. Она неизбежно оставит его ради другого мужчины, который будет ее любить, не подозревая о ее тайне. Жевинь чуть было не разгадал ее; тогда она покончила с собой. А теперь…
Недопитая рюмка выпала из рук Флавьера; коньяк пролился ему на колени. Он вытер брюки платком, стыдливо подобрал скользкие осколки, покосился на бармена, все еще читавшего газету. Как он ненавидел себя за то, что не додумался до этого раньше! Теперь она, наверное, уже сбежала! Должно быть, заранее собрала свои вещи в той гостинице… Может, сейчас она покупает себе билет в Африку… в Америку… И это еще хуже, чем смерть.
Он встал, но вдруг, покачнувшись, ухватился за кресло.
— В чем дело? Мсье плохо?
Ему помогли подняться и осторожно довели до бара.
— Нет, оставьте меня!
Уцепившись за никелированную стойку, он тупо уставился на белую куртку и манишку склонившегося над ним официанта.
— Ну вот… мне уже лучше, спасибо.
— Капельку подкрепляющего? — предложил бармен.
— Да… да, виски!
Он жадно поднес рюмку ко рту. Он стыдился своей слабости, но желтоватый напиток придаст ему сил. И тогда он что-нибудь придумает, чтобы помешать Мадлен уехать. Ведь во всем виноват он сам со своими вечными допросами и намеками. Возможно, когда он ее нашел, она уже позабыла о своих превращениях. И он сам понемногу воссоздавал Мадлен, даже не подозревая, что так он потеряет ее навсегда. Как теперь усыпить ее подозрения? Каким образом заставить поверить, что они могли бы жить как раньше? Слишком поздно.
Он отыскал глазами настенные часы. Полпятого!
— Запишите на мой счет!
Он оторвался от стойки и сделал несколько неуверенных шагов. Затем ноги немного окрепли. Он прошел через холл, подозвал посыльного: