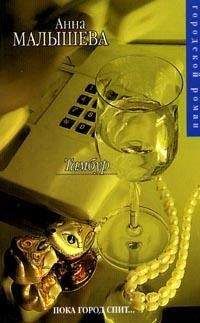— Всех! — Девушка достала носовой платок и энергично отерла слезы. — Я уволюсь! Вот увидите — уволюсь, к черту, не хочу, не могу больше!
Голубкину с большим трудом удалось завести ее в свою машину, в тепло. Там он достал термос с чаем (запасы были пополнены в кафе) и пирожок с повидлом (куплено там же). Жанна все съела и выпила с таким видом, будто и не осознавала своих действий. Доедая последний кусок пирожка, она всхлипнула.
— Что, так невкусно? — забеспокоился Голубкин.
— Какой цинизм! — Жанна совершенно по-детски облизала пальцы, испачканные повидлом. — Это просто немыслимо!
— Да о чем ты? — Следователь ласково приобнял ее за плечи. При этом он ощутил, что девушку бьет нервная дрожь," — Что-то случилось?
— Они все радуются! — Та подняла заплаканные глаза. — Они радуются его смерти!
— Кто именно? — Голубкин насторожился. — Конкретно — кто? Жанночка, деточка, не надо…
Та опять принялась всхлипывать, и ему пришлось сильнее сжать ее плечо. Жанна мотала растрепанной головой и твердила, что больше ни одного дня не останется в этом проклятом месте! Пускай у нее нет денег, но деньги ведь еще не все! Она не может видеть эти мерзкие лица, улыбочки, глумливые взгляды, она просто больше так не может!
— И ты совершенно права, — успокаивал ее Голубкин. — Значит, кто-то рад смерти Боровина?
— О-о-о… — выдохнула та и наконец сумела перевести дыхание. Тут она обнаружила руку Голубкина на своем плече и удивленно на него взглянула. Тот убрал руку и откинулся на спинку сиденья. — Они все рады.
— Все?!
— Вы не удивляйтесь, — она вытирала слезы скомканным носовым платком. — Я уже говорила вам, что Алексею Михайловичу завидовали.
— Но зависть, это еще не повод для… — начал было следователь, но девушка, окончательно придя в себя, оборвала его:
— Как не повод?! А Моцарт и Сальери?! Вы хотя бы знаете, что Сальери убил Моцарта только за то, что тот был более талантлив?
Тут Толубкин одновременно вышел из себя и обрадовался. Вышел из себя — потому что ему давно осточертело отношение так называемых интеллектуалов, которые считают всех ментов примитивными агрегатами, способными только отпечатки пальцев снимать да взятки брать. Его либо боялись, либо презирали — а нормального общения никогда не получалось. А обрадовался потому, что сейчас мог поставить на место эту девчонку, которая (он был уверен) не слишком то блещет образованием.
— Конечно, это я знаю, — с нехорошей улыбкой ответил Голубкин. — В свое время прочитал даже одну книжку, австрийскую, где все было изложено в документальной форме. Получилось что-то вроде детектива.
Очень было интересно. Случайно в руки попала — я в санатории лечился, а кто-то книгу в тумбочке забыл. Так вот, сколько я ни копался в показаниях — а там кого только не допрашивали, — на Сальери с точностью это убийство повесить нельзя. Есть, конечно, доводы против него: и служанку он Моцарту подсунул, и слиняла она куда-то в день его смерти, и денежки на курорт он его жене и детям дал… А зачем дал? Чтобы свидетелей убрать. И орал на всех углах: «Моцарт, мой лучший друг, умер, какое горе!» А что же он, первый придворный композитор Вены, его оперы к постановке не допускал? Заработать не давал? Тот из-за него по урокам бегал, замучился. На курорт деньги дал, а на похороны — нет?!
Моцарта закопали, как собаку, засыпали известью, неизвестно, на каком участке кладбища! А зачем?
Он прищурился. Оцепеневшая Жанна не сводила с него глаз.
— Да чтобы вскрытия избежать! — победно заключил свой монолог Голубкин. — И вот на основании этого факта я мог бы его привлечь, но это опять же косвенный факт. Вот если бы доказали отравление, а не заболевание почек… — а пил этот Вольфганг Амадей серьезно! И если бы служанка дала показания! Или доказали, что сам Сальери сыпанул ему в бокал хорошую дозу мышьяка! Да ведь нет — все концы упрятаны, все чисто. Так что, тут либо совпадение, либо убийство. Но я бы смог его привлечь только в качестве свидетеля…
И отхлебнув из крышки термоса остывший чай, пояснил:
— В смысле, Сальери. Да и то, у него были такие связи при дворе, что его бы дружки отмазали.
Жанна с минуту потрясенно смотрела на него, а потом мотнула головой:
— А все-таки, Алексея Михайловича убили из зависти.
— Вот об убийстве мы и будем говорить, — заметил Голубкин. — Только Моцарта и Сальери оставим пока в стороне. Мне факты нужны. Они есть? Что-то появилось? Кто-нибудь что-нибудь говорил? Деточка, милая, ты ведь можешь мне помочь! Почему ты сегодня плакала?
Девушка схватилась за горло, будто ее душ ил и. Раздался всхлип — жалобный, почти неслышный.
— Вчера, в субботу, я сидела на кафедре, оформляла принятые к защите дипломы. В сущности, это нужно было сделать в пятницу, но из-за того, что вы мне сообщили про смерть Алексея Михайловича, я в тот день работать не могла. Ну и пришла в выходной. Я сидела в маленькой комнатке, у нас там архив. Дверь на кафедру — она смежная с той комнатой, где вы были — была закрыта. Я копалась в бумагах, а потом услышала голоса.
— Чьи?
Ее лицо будто вылиняло, губы крепко сжались. Голубкин наклонился к ней:
— Чьи, деточка, чьи? Кто это был? Эта ваша…
— Нет, — Жанна в панике отшатнулась. — Это была не Марьяна Игнатьевна. И вообще никто из наших преподавателей. Я бы их узнала! Это были двое каких-то молодых… Парень и девушка.
— И о чем они говорили?
— О, Господи… — прошептала девушка. — Если бы забыть! Они радовались, что убили Алексея Михайловича! Если бы вы сами слышали!
Из ее дальнейших, довольно бессвязных показаний вытекало, что парень и девушка очень воодушевленно хвалили того, кто прикончил Боровина. В их речах невозможно было усмотреть и тени жалости к покойному.
Они веселились и шуршали какими-то бумагами. Потом ушли. Только тогда ошеломленная методистка осмелилась выглянуть из своей конурки. Кабинет был пуст.
— И тогда я решила позвонить вам, — она опять плакала, судорожно прижимая к набрякшим векам носовой платок, который уже успел превратиться в лохмотья. — Не могла я так это оставить! Он всегда относился к студентам, как к своим родным детям! Он же был совершенно одинок, и вот поэтому… Боже мой! И какая неблагодарность! Нет, хуже!
Она рванула платок и скомкала в кулаке клочки:
— Ладно, может, кому-то из них показалось, что он придирается на экзамене! Хотя он ни к кому не придирался, просто был очень требовательным, но это ведь отлично!
Голубкин молча кивнул.
— Но если человек умер, если его убили — можно забыть такую мелочь?! А они… Они чуть не смеялись!
— Так, стоп! — следователь схватил ее за руку и крепко сжал запястье. Он видел, что девушка опять собирается впасть в истерику. — Конкретно — что они говорили о нем?
— К-конкретно? — выдавила та, уже с трудом раскрывая опухшие глаза. — Что он получил по заслугам.
— Еще?
— О, не помню… Какой ужас! Я не вынесу, я уволюсь!
Голубкин отбросил ее руку и уставился в ветровое стекло, щедро залепленное мокрым снегом. Включил дворники, завернул крышку пустого термоса. «Почему она так убивается? Говорит о Боровине, как об очень близком человеке. Может быть…»
— Скажи, — как можно мягче произнес следователь, — ты хорошо его знала?
— Знала ли я его? — прошептала та. — Да. Это был удивительный, добрый, честный человек. И очень талантливый.
— Нет, я имею в виду не его качества. Я хотел спросить — насколько близко ты его знала?
"Черт, — сердился про себя Голубкин, — девица экзальтированная, истеричная… Ну как спросить ее прямо, спала ли она с ним?! У нее же припадок начнется!
Знаю я таких особ!"
Но Жанна, казалось, прочла его мысли. Она в последний раз вытерла слезы, сунула в карман обрывки платка и сухо сказала, что никто и никогда не мог бы обвинить Алексея Михайловича в том, что он пытался завести интрижку в институте. Другие это делали. Были такие преподаватели, что не гнушались и шантажом. Ты мне — некоторые интимные услуги, я тебе — пятерку на экзамене.
— Это грязь. — Она прямо посмотрела в глаза собеседника. — Но с ней приходится мириться. Бывают ведь и такие студентки, которые сами провоцируют преподавателей, если ни черта не знают. А преподаватели тоже люди. У них тоже и нервы есть, и желания.
— А у Боровина, стало быть, не было? — произнес Голубкин, но тут же отшатнулся. Девушка едва не кинулась ему в лицо с ногтями. Остановилась в последний момент. Она была похожа на гарпию — разъяренную, безумную, неуправляемую.
— Не смейте этим шутить! — угрожающе прошипела она. — Это был святой человек!
Голубкин с трудом опомнился. Хотя эта девушка уже успела удивить его — своей собачьей преданностью покойному, но такой бурной реакции он и ждать не ждал!
"Что-то у них было. Не знаю что, но ставлю на секс. Или на то, что она была в него влюблена, а он ее не замечал.