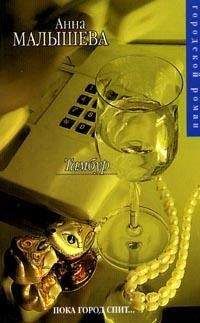— Дайте посмотреть, — Голубкин вцепился в листы бумаги, которые протянула ему женщина. — Это те три звонка? От молодого парня, в ночь с четверга на пятницу?
— Мне в ту ночь звонили несколько молодых парней и еще куча всякого народу, — насмешливо ответила женщина. — Но я полагаю, что выписала правильно. Уж очень они выбивались из общего потока.
— А голос был один и тот же? — Голубкин поднял голову.
— Он шептал. Но шепот был один и тот же.
— Шептал… А зачем ему шептать? — пробормотал следователь как бы наедине с собой.
— Может, боялся кого-то разбудить? — предположила она. — Так часто бывает, если звонят тайком от семьи.
— Он жил один.
Произнеся эту фразу, Голубкин будто опомнился и снова уткнулся в исписанные листы.
— Итак… Это еще четверг. Первый звонок был в двадцать три часа пятнадцать минут. Вы точно указываете время?
Юлия пожала плечами:
— По возможности точно. В принципе это не важно.
— В данном случае…
— Ну вот для ваших данных случаев мы время и указываем, — улыбнулась она. — Хотя редко случается давать показания. У меня это впервые.
Голубкин забормотал поднос: "Двадцать три пятнадцать… Время разговора — пять минут… Тема — "не с кем поговорить, зачем вы смотрите «Чужих»…
Он изумленно поднял глаза, а женщина кивнула:
— Я в самом деле смотрела «Чужих». Без звука, разумеется. И еще очень удивилась, как меня вычислили. Впрочем, те, кто звонит, часто ревнуют психолога ко всем проявлениям жизни. Им кажется, что те отвлекаются и халтурят. Хочется, чтобы психолог достался только им, родным.
— Так…. Его раздражало, что вы смотрите «Чужих»… А далее у вас запись — «Убили человека».
— Я хотела бы уточнить, — перебила Юлия. — Он сказал «кажется, убили человека». Это была такая странная оговорка!
— Тут не написано — «кажется», — Голубкин вчитался в текст. — А он так сказал?
— Да. И еще он говорил — я не записала, — Юлия все больше волновалась, — «у меня кое-что случилось». Это я пропустила тогда мимо ушей, а теперь вспомнила — Точно — «у меня»? — Голубкин торопливо делал пометки на листе. — Он так и сказал?
— Точно. Скажите мне все-таки, что случилось?
— Убили человека. Его соседа по тамбуру. И не «кажется», а точно.
Юлия прикусила губу. Она знала, знала, что тот тихий безликий голос не лжет! Она ощущала это, и у нее по спине шли ледяные мурашки. И сейчас почти не удивилась.
— А кого? — решилась она спросить.
— Ну, вряд ли вас это коснется, — невнимательно ответил следователь, продолжая изучать записи. — Так… Разговор прерван. Вы даже не успели дать совета.
Второй звонок в два часа тридцать пять минут. Верно?
— Да. И снова то же самое — не с кем поговорить, вы все бездушные, вам нет до меня дела, смотрите себе телевизор… Только тогда он уже стал говорить, что покончит с собой. Простите, я все-таки глотну кофе!
Юлия резко встала и пошла к стойке. Пока барменша в красном чепчике возилась с кофейным аппаратом, женщина напряженно обдумывала ситуацию. Собственно, и кофе-то она заказала больше для отвода глаз, чтобы выиграть время. Ей вдруг стало страшно — не за себя, не за то, что может наговорить лишнего — чего ей бояться? Она — свидетель. Но этот молодой человек…Что с ним? Что он сотворил с собой и с кем-то еще?
«Он же не в себе! — рассуждала Юлия, терпеливо дожидаясь, когда ей подадут чашку кофе. — Может быть, была одна пустая болтовня. Сколько таких случаев! А я, вот так, сразу, написала на него целый донос. Нужно узнать о нем! Возьмут и посадят, а голос такой несчастный…»
Дольше медлить было невозможно — кофе, поставленный на стойку, дымился и остывал. Юлия взяла чашку и вернулась за стол.
— Он жив? Вы сказали мне вчера вечером, что жив.
— Да, парень в полном порядке. Я вот смотрю третью запись, — озабоченно проговорил следователь. — И что-то не понимаю. Время звонка — три часа десять минут. Тема разговора — Данте. Это что?
— Да то, что он принялся читать мне стихи. Цитаты из Данте, из «Божественной комедии», — пояснила женщина. — Не помню уж, сколько. Дайте взглянуть…
Да, четыре цитаты. Точнее, четыре с половиной, потому что под конец он стал надо мной издеваться, что я не помню начала поэмы. Произнес только первую строчку.
Ее-то я как раз помнила. Да это все знают! «Земную жизнь пройдя до половины…»
— И мне читал стихи… — задумчиво проговорил Голубкин. — Уже в больнице. Что-то про любовь.
— А! — воскликнула женщина. — Вот это? "Любовь, любить велящая любимым, меня к нему так властно привлекла, что этот плен ты видишь нерушимым.
Любовь вдвоем на гибель нас вела". Это самое?
Следователь взглянул на нее с уважением:
— Да, точно так и читал. Я сразу подумал, что с парнишкой будут большие проблемы.
— Но почему? — Юлия глядела на него, чуть нахмурившись. — Парень любит поэзию. Никому не запрещено цитировать Данте. Между прочим, после этих звонков я сама просмотрела книгу и нашла все цитаты.
Вот — все вам написала. Тогда-то, ночью, мне просто было некогда записывать за ним стихи. И потом, я была слишком взволнована. Я всегда чувствую, если что-то случилось. А «Божественную комедию», если будет досуг, прочитаю как следует, а то в университете как-то пропустила.
Следователь раздраженно растер руки — было слышно, как шуршит сухая кожа на костяшках пальцев:
— Да пусть читает, что хочет! Но вот это, насчет «любовь вдвоем на гибель нас вела»… Вы меня тоже поймите — мы же практически коллеги! В одну ночь, в одном тамбуре — убийство и попытка самоубийства. Вот тебе и вдвоем!
— А дальше-то видите, — Юлия азартно перегнулась через стол, испачкав рукав блузки в лужице кофе и даже не заметив этого. — Дальше цитата из главы о самоубийцах. «И тот из вас, кто выйдет к свету дня, пусть честь мою избавит от навета, которым зависть ранила меня!»
Голубкин тяжело вздохнул. Данте в половине десятого утра, после полубессонной ночи, совсем его не впечатлял.
— Я специально смотрела примечания к «Божественной комедии»! — торжественно сообщила Юлия. — Речь идет о вынужденном самоубийстве! О вынужденном, понимаете? Парень и сам говорил об этом, но я решила перепроверить — вдруг послышалось? Ночью всякое бывает.
— То есть вы хотите сказать, что его кто-то вынудил покончить с собой? — Голубкин с тоской рассматривал разводы кетчупа в своей опустевшей тарелке. С одной стороны, ему хотелось еще пиццы. С другой — уже и после первой началась страшная изжога. А с третьей — эта миловидная голубоглазая женщина могла принять его за обжору, который не дело делает, а шляется по грязноватым забегаловкам и набивает живот всякой дрянью.
— Во всяком случае, он хотел представить дело именно так, — ответила она. — И требовал, косвенно, конечно, чтобы его избавили отложного обвинения. Тогда я совсем голову потеряла, а теперь думаю — почему взята такая цитата?
— Ну да, Исаев перерезал себе вены, — буркнул следователь. — Только, знаете, трудно заставить человека покончить с собой против его воли. Поверьте моему опыту.
— Поверьте и вы моему! — Юлия даже приподнялась. — Нервного, слабого, чувствительного человека можно подтолкнуть к самоубийству!
— А к убийству тоже можно?! И никто ни в чем не виноват?!
— Постойте, — она изо всех сил пыталась взять себя в руки. — Есть ведь еще цитата. «Во мне живет и горек мне сейчас Ваш отчий образ, милый и сердечный, того, кто наставлял меня не раз». Сперва, когда я отыскала эту цитату, задумалась — а к чему она? Потом стала читать примечания. Знаете, о ком речь? О Брунетто Латини, учителе молодого Данте. Но в этой же песне речь идет о содомии.
— О чем?! — воспрянул Голубкин.
— О содомии! Тут я уже ничего не понимаю, но записала, как было сказано. И вот еще дальше он говорил: «Не помню сам, как я вошел туда, настолько сон меня опутал ложью, когда я сбился с верного следа…»
Но Голубкин уже не слушал. Он забыл и о пицце, которую только мечтал заказать, и о том, что вчера, в субботу, ему позвонили двое (судя по голосам на автоответчике — молодые) и назначили встречу по поводу Боровика. Он считал, что это были студенты. Те ничего о себе не сообщили, было ясно одно — это парень и девушка. Обе встречи должны были состояться сегодня же.
Отправляясь к Юлии, он даже не думал, что получит столько информации. С одной стороны, конечно, к делу это пришить трудно. Парень не в себе, взять с него, получается, нечего, в припадке мог наговорить и нацитировать такого, что и Заратустра не разберет. Но с другой? Что у нормального человека на уме, у самоубийцы — на языке. И ведь лежит он сейчас в больнице, декламирует Данте. А Данте — это следователь точно знал — писал по-итальянски. А что преподавал Боровин?
«Ну и чертова кукла этот Исаев! — подумал он. — Нашел время сходить с ума! И кровь одной группы с Боровиным! И сам признался в убийстве, сам, никто его за язык не тянул! А потом разорутся родственнички — ага, мол, опять наши продажные менты подставляют самого невинного! И будет куча неприятностей».