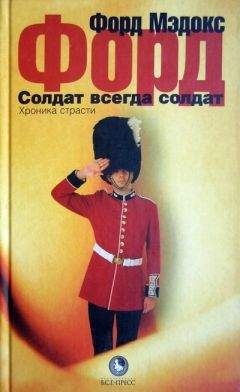— Очень даже мог… — задумчиво произнес Валера вслух, отхлебнул свой любимый кофе «эспрессо» без сахара и закурил.
С Гришечкиным разобраться будет несложно. Если его прижать как следует, он станет колоться. Такие нервные колются легко и быстро. Да и связи его известны, киллера, которого мог нанять Гришечкин, не так сложно вычислить. Толстый не тот человек, который будет подчищать концы, убирать исполнителя. Он, сделав решительный ход, возможно единственный в своей жизни, истечет соплями и слезами, свихнется от сомнений и паники… В общем, если это работа Толстого, волноваться не стоит. Он весь как на ладошке, никуда не денется. В любой момент можно прихлопнуть.
А вот если Глеба заказал Егор Баринов, тогда совсем другой получается расклад. Тогда хреново, очень даже хреново… Советник президента Егор Николаевич Баринов был одним из самых дорогих приобретений вора в законе Валеры Лунькова. В наше время каждый уважающий себя вор просто обязан купить себе политика, а лучше нескольких. И здесь не стоит мелочиться. Скупой, как известно, платит дважды, причем второй раз иногда приходится платить своей свободой и жизнью.
Валера не поскупился. Конечно, Баринов был не единственным луньковским политиком, но самым влиятельным и серьезным. А в последнее время Егор Николаевич стал совсем уж серьезным, почувствовал себя крутым, гонор появился, этакая снисходительность в голосе.
Валера сначала только усмехался про себя: «Эй, ты, охолонись! Кто за кого платит? Кто здесь хозяин? Ну-ка, к ноге! Сидеть! Знай свое место».
Потом он стал произносить это вслух, немного мягче, но смысл был тот же. Однако Баринов не понимал, наглел, иногда даже хамил. Валера заводился медленно. Он мог долго терпеть. Со стороны казалось, что он такой добродушный, терпеливый. На самом деле он в отличие от многих своих коллег по нелегкому воровскому ремеслу предпочитал сначала подумать, понаблюдать, понять, почему человек нехорошо поступает, а потом уж наказывать. Оторванную голову на место не приставишь. Это только на далеком острове Джамайка черные шаманы оживляют мертвецов. И то неизвестно, может, просто фокусы показывают, как в цирке… Амбиции Баринова сами по себе Валеру не трогали. Баринов был из комсомольских шавок, начинал чуть ли не инструктором горкома, а стало быть, с молодости слушался чьих-то строгих команд: «Сидеть! Лежать! Голос!» Ну пусть себе тешится на старости лет, пусть играет в «крутого», лишь бы делу это не вредило. Но мудрый вор Валера в последнее время стал опасаться, не стоит ли за наглостью карманного политика нечто более серьезное и весомое.
Например, страх. Панический, потный ужас. Одни со страху умнеют, другие тупеют. Есть такие, которые начинают ползать на коленках и могут даже в штаны наложить. Но некоторые, наоборот, начинают хамить, задираться — отчаянно и бездумно, не рассчитав толком своих жалких сил.
Если Баринов наглеет от страха, значит, кто-то хорошо его напугал. Уж не Глеб ли Калашников?
— Надо выбрать хороший портрет. Самый лучший, — сказал по телефону Константин Иванович, — знаешь, я смотрел альбомы, у меня, оказывается, только детские фотографии. Все кончается восемнадцатью годами. Ты попробуй подобрать что-нибудь.
— Хорошо, я посмотрю, — ответила Катя, — вы хотите, чтобы на памятнике была фотография?
— Да, на фарфоре. И еще я хочу повесить дома большой портрет в рамке. Знаешь, оказывается, у меня сохранились мосфильмовские фотопробы. Там ему двенадцать. Помнишь фильм «Каникулы у моря»? Он сыграл главную роль. Надо взять пленку в архиве, перегнать на кассету. — Константин Иванович тяжело вздохнул. — Что-то я еще хотел сказать тебе, деточка… Ах, да, нам с тобой придется решать серьезные деловые вопросы. Ты только пойми меня правильно, детей у вас с Глебом нет, ты молодая красивая женщина, довольно скоро ты захочешь как-то устроить свою личную жизнь. И рядом с тобой окажется совершенно чужой человек, который… — Я поняла, Константин Иванович, — перебила Катя, — но давайте поговорим об этом чуть позже, хотя бы после похорон. Не по телефону и не в начале второго ночи.
— Да, прости. Я плохо сейчас соображаю. Все путается в голове. Совсем не сплю, а снотворное принимать не рискую. В моем возрасте стоит только начать, и сразу организм привыкает. Маргоша замучилась со мной. Знаешь, я вдруг вспомнил, как месяца три назад, тоже в начале второго ночи, я говорил с Глебом по телефону. Ты исчезла куда-то. Он страшно переживал. Он очень любил тебя, деточка. Все эти ужасные сплетни про его… — Константин Иванович, мне дела нет до сплетен. А сейчас тем более.
— Да, конечно. Ты мне дай знать, когда придешь в себя и будешь готова к серьезному деловому разговору. Хорошо?
— Я и так готова, — жестко сказала Катя, — для этого мне не надо приходить в себя. Не думаю, что у вас со мной возникнут проблемы. По закону мне положена одна треть имущества. На большее я не претендую. Но это все равно решать не вам и не мне.
— Интересно, кому же?
— Константин Иванович, ну вы же знаете, — вздохнула Катя, — прекрасно знаете. Все, что касается доходов казино, решает Валера Луньков.
— Откуда в тебе, деточка, столько цинизма? — жалобно спросил Калашников после долгой паузы.
— Это врожденное, — хмыкнула Катя.
— Да, ты умеешь все огрублять. Твоя жесткость всегда ранила Глеба. Он был тонким, чувствительным мальчиком. Ты ведь никогда его не понимала, не ценила… — Константин Иванович, чего вы от меня хотите? — устало спросила Катя.
— Ничего. Просто это ледяное спокойствие мне кажется странным. Ты не проронила ни слезинки. Глеб еще не похоронен, а ты уже занялась дележом имущества. Не рано ли?
— По-моему, это была ваша инициатива, Константин Иванович. Давайте лучше прекратим этот разговор и пожелаем друг другу спокойной ночи.
Калашников молчал очень долго. Катя уже хотела нажать кнопку отбоя, решив, что разговор окончен. Но тут услышала тихий, сдавленный всхлип:
— Прости меня, деточка. Я несу невесть что. Прости меня и забудь все, что я тебе наболтал сейчас. Это нервы, ты должна быть снисходительна. У нас общее горе.
— Да, дядя Костя. У нас общее горе.
— Ты простила меня? Ты не станешь обо мне плохо думать?
— Нет. Я буду думать о вас только хорошо. Ложитесь спать, дядя Костя, поздно уже.
— Да, Катенька. Очень поздно. Ты точно меня простила?
— Ну простила, простила… Спокойной ночи.
— Обнимаю тебя, деточка.
После разговора остался противный, липкий осадок. Константин Иванович как бы походя, между прочим обмолвился о той единственной ночи, когда Катя позволила себе не ночевать дома, явилась ранним утром. Не его это дело. И совсем уж нехорошо упоминать об этом в связи с дележом наследства.
Это было чуть больше трех месяцев назад. Кончался май. Шли теплые шумные дожди. В театре давали «Лебединое озеро». Глеб привел каких-то нефтяных башкиров и посадил в первый ряд. В антракте вся компания ввалилась к Кате в гримуборную.
Башкиров было трое. Один пожилой, в национальной войлочной шапке, в мягких сапожках с задранными носами, все время мычал про себя какой-то заунывный степной мотив, ни с кем не разговаривал, смотрел в одну точку глазами-щелочками. Как потом выяснилось, он был старший, главный. Другие двое, молодые, бойкие, кривоногие, болтали без умолку, матерились, ржали, рассказывали неприличные анекдоты. Голоса у них были высокие, почти женские. От всех троих разило за версту крепким перегаром.
К Кате они ввалились с откупоренной бутылкой французского коньяка, тут же стали пить прямо из горлышка, по очереди, и все совали бутылку Кате:
— Выпей с нами, красавица, что ты ломаешься?
— Слушай, зачем такой худой-усталый? Эй, Калашник, ты пачыму плохо кормишь свою жену? У меня чытыре жены, все толстый, мясистый, красивый, а у тебя одна, смотри какие ручки у нее слабий. Женщина должна дома сидеть, а не по сцене прыгать.
При этом один, самый пьяный, со смехом стал щупать Катино голое плечо. А Глеб сидел в кресле, закинув ноги на маленький журнальный столик, и разговаривал по радиотелефону.
— Ну, солнышко, не обижайся, — тихо ворковал он в трубку, — у меня очень важные гости… Ну, давай завтра… Я тебе обещаю… Оль, перестань, не заводись… На важных гостей, которые не ведали, что творили, он не обращал внимания. Катя знала, кто такая эта Оля. Терпение лопнуло.
— Пожалуйста, выйдите отсюда все, — сказала она спокойно, стараясь не повышать голос.
— Глеб, нас здесь не уважают, — рыгнув, заметил один из гостей.
— Все, целую тебя, солнышко, не грусти, — пропел Глеб в трубку и недовольно посмотрел на жену:
— Кать, ну ты чего?
— Ничего. Уведи своих важных гостей. Мне надоело.
— Что тебе надоело? Чем ты недовольна? Ну, выпили люди немного. У нас были серьезные переговоры, надо расслабиться.