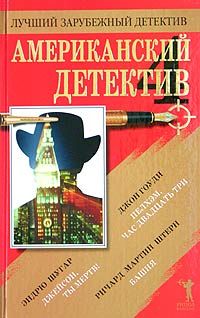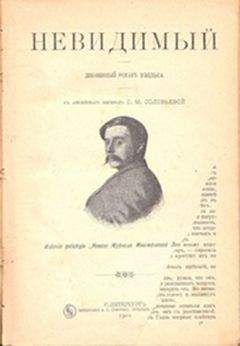— Потому что если мы убьем всех, — спокойно объяснил голос, — мы останемся без рычага воздействия. Но если убьем двоих, троих или даже пятерых, у нас все равно останется достаточно. Один заложник за каждую минуту опоздания. Больше мы это обсуждать не будем.
Прескотта терзали смешанные чувства: он был в ярости, близко к отчаянию и одновременно готов на любое унижение, если это как-то поможет, но он знал, что все эти чувства бессильны перед железной волей врага. И стараясь совладать со своим голосом, он переменил тему:
— Вы позволите нам подобрать старшего диспетчера?
— А кто это?
— Человек, которого вы застрелили. Мы хотели бы отправить туда носилки, чтобы вынести его.
— Нет.
— Вдруг он еще жив и страдает?
— Он мертв.
— Откуда вы знаете?
— Он мертв. Хотя если вы настаиваете, можем всадить в него еще полдюжины пуль, чтобы он не мучился. Но он вряд ли мучается.
Прескотт облокотился на стол и уткнулся лицом в ладони. Когда он снова поднял голову, из глаз у него текли слезы, и он сам не знал точно, что их вызвало — ярость, жалость или то и другое вместе. Скомкав носовой платок, он тщательно промокнул глаза — сперва один, потом другой, — а затем связался с Дэниэлсом. Сухим служебным голосом он произнес:
— Отсрочки не дают. Категорически отказались. Будут убивать по одному пассажиру за каждую минуту опоздания.
— Успеть в срок невозможно, — так же сдержанно отозвался Дэниэлс.
— Три часа тринадцать минут, — сказал Прескотт. — После этого можем начинать вычеркивать пассажиров. По одному в минуту.
Мюррей Лассаль взлетел по парадной лестнице, перескакивая через две ступеньки, и ворвался в спальню мэра. Его честь лежал лицом в подушку, пижамные штаны были приспущены, так что белел голый зад, а рядом стоял врач со шприцем наготове. Зад был приятной формы, практически безволосый, и Лассаль подумал: если бы мэров выбирали по красоте их задниц, его честь правил бы вечно. Доктор сделал выпад, мэр издал краткий вскрик, перевернулся на спину и натянул пижамные штаны.
— Сэм, вставайте и одевайтесь. Мы едем, — произнес Лассаль.
— Да вы с ума сошли! — простонал мэр.
— Не может быть и речи, — вмешался врач. — Это просто смешно.
— Вас забыли спросить, — парировал Лассаль. — Политические решения здесь принимаю я.
— Его честь — мой пациент, и я не позволю ему встать с постели.
— Что ж, тогда я найду доктора, который позволит. Вы уволены. Сэм, как фамилия того черномазого интерна в больнице Флауэр? Которому вы помогли поступить в медицинский колледж?
— Этот человек очень болен, — сказал доктор. — Сама его жизнь может быть под угрозой.
— Разве я не сказал вам — исчезните? — Лассаль свирепо глянул на доктора. — Сэм, я вспомнил фамилию этого интерна — Ревиллион. Сейчас я ему позвоню.
— Нет, он мне здесь ни к черту не нужен. Хватит с меня докторов.
— А ему не обязательно приезжать. Он и по телефону поставит правильный диагноз.
— Мюррей, я правда погано себя чувствую, — остановил его мэр. — В чем дело?
— В чем дело? Жизнь семнадцати горожан в опасности, а мэр не хочет появиться на месте преступления?
— Что изменится, если я приеду? Да меня просто освистают, вот и все.
Врач торопливо обошел вокруг кровати и взял мэра за запястье.
— Отпустите руку, — приказал Лассаль, — я же сказал, вы уволены. Теперь тут работает доктор Ревиллион.
— Да он еще даже не доктор, — слабо сказал мэр. — На четвертом курсе учится, по-моему.
— Слушайте, Сэм, все, что от вас требуется, это приехать туда, сказать бандитам несколько слов в мегафон, и все. Можете возвращаться в постель.
— Можно подумать, они меня послушаются!
— Не послушаются, но сделать это надо. Пусть избиратели видят, что вы защищаете жизнь горожан.
— Изибратели-то, между прочим, здоровы, — укоризненно сказал мэр.
— Вспомните Аттику,[9] — сказал Лассаль. — Хотите стяжать лавры губернатора Рокфеллера?
Мэр резко сел в кровати, свесил ноги и тут же чуть не упал вперед лицом.
— Это безумие, Мюррей. Я даже встать не могу. Если я поеду, мне станет еще хуже. — Его глаза наполнились слезами. — А если я умру?
— С политиками случаются вещи похуже смерти, — жизнерадостно сказал Лассаль. — Давайте, Сэм. Я помогу вам натянуть брюки.
Райдер открыл дверь кабины. Лонгмэн слегка посторонился, но Райдер все равно задел его плечом. Лонгмэн почувствовал, что Райдер весь дрожит. Стивер сидел у задней двери, направив автомат в туннель. Уэлком, по-хозяйски расставив ноги, стоял в центре вагона и, зажав автомат подмышкой, презрительно разглядывал пассажиров.
— Прошу внимания, — громко сказал Райдер. Он обвел взглядом лица, которые медленно поворачивались к нему — медленно, неохотно, просто потому, что его голос вынудил их повернуться.
Немногие отважились встретиться с ним взглядом: старик смотрел мрачно, однако в его глазах светился живой интерес; черный бунтарь вызывающе насупился из-под обагренного кровью носового платка; бледный машинист беззвучно шевелил губами; сонный хиппи по-прежнему улыбался в полной отключке. Мамаша судорожно прижимала к себе мальчишек, словно боялась, что их сейчас отберут у нее. Девица в мини-юбке расправила плечи, машинально выпятила грудь и профессиональным движением закинула ногу на ногу.
— У меня есть новости, — сказал Райдер. — Город согласился выкупить вас.
Мамаша судорожно прижала к себе ребят и начала покрывать их лица поцелуями. Лицо черного парня не дрогнуло. Старик захлопал в ладоши, изображая овацию. Похоже, без тени иронии.
— Если все пойдет как надо, вы, целые и невредимые, скоро вернетесь домой.
— Что значит «как надо»? — поинтересовался старик.
— Если городские власти сдержат свое слово.
— Отлично, — сказал старик. — Мне ужасно интересно — просто из любопытства, — а сколько денег за нас дадут?
— Миллион долларов.
— По миллиону за каждого?
Райдер отрицательно помотал головой.
— Значит, примерно по шестьдесят тысяч на нос? Это все, чего мы стоим?
— Заткнись, старик, — вмешался Уэлком. В его голосе звучало нетерпение. Райдер понял почему: Уэлком явно клеил девицу, ее шикарные позы были адресованы именно ему.
— Сэр, — мамаша подалась к нему, потеснив мальчишек, — сэр, как только вы получите деньги, вы нас отпустите?
— Не сразу, но очень скоро.
— А почему не сразу?
— Достаточно вопросов! — отрезал Райдер. Он сделал шаг к Уэлкому и тихо проговорил: — Хорош тут кадриться. Нашел тоже время!
Даже не потрудившись понизить голос, Уэлком ответил:
— Не волнуйся, я и за стадом успею уследить, и с телочкой порезвиться. И нигде осечки не дам.
Райдер нахмурился, но смолчал. Он вернулся в кабину, не ответив на вопросительный взгляд Лонгмэна. Остается только ждать. Он не хотел гадать, принесут деньги в срок или нет. Он не желал даже смотреть на часы.
Отметив про себя, что главарь бандитов вернулся в кабину машиниста, Том Берри тут же выкинул его из головы, и его мыслями вновь завладела Диди. Он вспоминал, как увидел ее впервые, и в очередной раз удивился тому, как действовало на него ее присутствие. И дело не в том, что он ловил себя на всяких разных мечтаниях, которые настоящему копу вовсе не к лицу — тем более что случалось такое нечасто. Просто Диди каким-то непостижимым образом заставляла его взглянуть на то, что он привык считать долгом, с какой-то неожиданной стороны.
Через день будет три месяца, как его послали в патруль под прикрытием в Ист-Виллидж. Патрульные в штатском были исключительно добровольцами, и он так и не понял, зачем высунулся. Наверное, просто достало торчать на местности в патрульной машине один на один с напарником — жирным нацистом с толстым загривком. Напарник ненавидел евреев, негров, поляков, итальянцев, пуэрториканцев, да и вообще человечество; единственное, что он любил, так это войну — не только войну во Вьетнаме, а войну в принципе. Тома от него просто тошнило.
Он отрастил волосы до плеч, отпустил бороду, напялил пончо, стянул волосы повязкой, намотал на шею бисерные бусы и окунулся в мир байкеров, бомжей, торчков, городских сумасшедших, студентов, радикалов, сбежавших из дому подростков и вырождающихся хиппи.
Опыт оказался довольно безумным, но уж никак не скучным. Том подружился с несколькими хиппи, коротко сошелся с несколькими карманниками, косившими под хиппи (а чем они хуже него самого — копа, косящего под хиппи?), стал чуть ли не своим в среде чернокожих ребят, собиравших запоздалый долг с потомков рабовладельцев. А потом через Диди сошелся с горевшими революционным огнем юными мажорами, сменившими комфорт родительского дома и кампусы элитарных университетов на прокуренные берлоги Виллиджа. Их кумиром был Мао, но сам Председатель вряд ли пришел бы в восторг от такого пополнения.