«Верю, – повторил Коля по дороге домой. – Верю… А собственно почему это он ей так верит? Чем она завоевала доверие? Или сказал для красного словца? Нет, не похоже это на Трепанова… Раз верит – имеет основания. А какие? Что может думать о Маше посторонний человек? Взбалмошная, насмешница. Вон Никифоров считает, что она вообще чуть ли не контра. Но он ошибается, это факт! А может, Трепанов заметил в Маше то, что он, Коля, не увидел?»
– Маша, – сказал Коля прямо с порога. – Начальиик просит тебя помочь.
– Вам нужна уборщица? – насмешливо спросила Маша. – Или, может быть, кухарка? Или я буду грамотно переписывать ваши безграмотные документы? Что ты молчишь? Ты сражен моей догадливостью?
– Деньги, которые ты мне отдала… нам отдала, – деревянным голосом сказал Коля, – спрятаны на Калужской, двадцать шесть, квартира восемь… Там живет Николай Иванович Кузьмин, давний приятель твоего отца, он очень бедный, поэтому ты у него не жила.
– У отца никогда не было такого знакомого, – растерялась Маша.
– Был, – возразил Коля. – За тобой следят люди Кутькова. Они возьмут тебя и будут пытаться выяснить, где клад. Ты назовешь этот адрес. Остальное – наше дело.
Маша смотрела на него с ужасом:
– И ты предлагаешь мне, своей жене, идти почти на верную гибель?
– Да. Своей жене. Самому дорогому для меня человеку, которому верю, как себе. Просто Маше Вентуловой я бы этого не предложил.
– Очень тронута. Я прослезилась! – Маша постепенно повышала голос. – Может быть, у вас, в среде бомбистов и революционеров, такие номера и приняты, но я не из цирка. Убирайся вон! Ты мне омерзителен! Фанатик!
– Я случайно стал милиционером, – тихо сказал Коля. – Потом понял, что эта работа – мое призвание. Понял и другое: мне революция дала все. Если она потребует взамен мою жизнь – я отдам ее. Не имею права иначе.
– Ты! – подчеркнула Маша. – Но не я! Тебе революция все дала, а у меня все отняла! И вообще. Твоя работа – это не моя работа. Прошу запомнить!
– А разве ты не со мной? – просто спросил Коля. – И разве революция, которую ты так ругаешь, не сделала тебе самый главный подарок в твоей жизни?
– Интересно, какой же? – с откровенным любопытством спросила Маша. Слова Коли ее очень удивили.
– А такой, – Коля широко улыбнулся и ткнул себя пальцем в грудь. – Я – это разве не подарок?
Она изумленно смотрела на него, не зная, что сказать.
– Ну и ну, – покачала она головой. – А ты, однако, еще и юродивый чуть-чуть. Святые вы все там? Или очень хитрые?
– Конечно, хитрые, – сказал Коля. – Сами отсиживаемся, других под пули подставляем. Самых близких. Самых любимых. – Он привлек Машу к себе и добавил дрогнувшим голосом: – Страшно мне за тебя, Маша. Если что… случится, – не жить мне.
– С ума сошел! – засмеялась она. – Что за панихида? Да я их всех обведу и выведу, так и передай Трепанову!
– Не смейся. – Коля провел рукой по ее волосам. – Ненатуральный у тебя смех и несерьезно это. Одно скажу: мы будем все время рядом, не сомневайся.
– А ты, братское чувырло, обещай мне забыть начало нашего разговора. Хорошо? – Маша повисла у него на шее.
– Ты хоть знаешь, что это такое? – грустно спросил Коля.
– Знаю, – развеселилась Маша. – Отвратительная рожа! Который день учу жаргон. А ты убежден, что ты красавчик? Идем-ка в Политехнический, счастье мое! Там Бальмонт сегодня выступает.
– Ладно, – сказал Коля. – Туда – вместе. А там останешься одна.
Маша сразу же помрачнела, кивнула:
– Поедем. Возьми лихача. Прокатимся. Эх, может, в последний раз! – Она бодрилась, но Коля видел, что где-то глубоко-глубоко в ее глазах пряталась тревога.
* * *
В Политехническом выступал Емельян Ярославский. Маша хотела уйти в фойе, но Коля не пустил ее.
– Примиритесь ли вы с тем злом, от которого страдает весь мир? – говорил Ярославский. – С нищетой, неравенством, проституцией, детской преступностью, войнами? Допустите ли вы, чтобы и юное поколение и подрастающие дети жили в той гнусной обстановке, которая создана имущими классами? Если вы хотите, чтобы борьба была короче и успешнее, чтобы меньше было жертв, – идите в ряды Коммунистической партии. Если хотите увидеть полную победу трудящихся не дряхлыми стариками, – идите в ряды Коммунистической партии!
Зал кричал и аплодировал. Маша задумчиво молчала.
– Ты что? – спросил Коля.
– Неужели все это – мы, дворяне? – тихо спросила она. – Проституция, детская преступность, нищета. Лучшие люди России были дворянами. Декабристы, наконец.
– Какие еще декабристы?
Она взглянула на Колю с сожалением:
– Пестель, Рылеев, Бестужев-Рюмин, Каховский. Они подняли восстание, хотели убить императора. Я не могу понять, неужели только мы виноваты в том, что Россию довели до этих страшных дней? А ты уверен, что вы сможете, ее возродить?
– Убежден. Мы не просто возродим Россию. При коммунистах Россия станет первым государством мира, вот увидишь!
– Твоя вера делает тебе честь. Но она слишком похожа на фанатизм, слишком похожа.
– Я знаю, что означает это слово, нарочно посмотрел в словаре, когда первый раз от тебя услышал, – сказал Коля. – Моя преданность партии – пусть я пока беспартийный – не слепа! А Трепанов? Он коммунист! Разве он нетерпим? Фанатики, я думаю, во многом только языком горазды трепать. А разве мы не работаем?
– Ну хорошо, хорошо, – сдалась Маша. – Потом поспорим.
На эстраду вышел Бальмонт, 52-летний красавец с внешностью мушкетера. Он галантно раскланялся и, не ожидая, пока утихнет шум, начал читать:
Я мечтою ловил уходящие тени,
Уходящие тени погасавшего дня,
Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.
И чем выше я шел, тем ясней рисовались,
Тем ясней рисовались очертанья вдали,
И какие-то звуки вкруг нас раздавались,
Вкруг меня раздавались от небес до земли…
Зал замер, вслушиваясь в музыку стихов. Коля повернулся к Маше. Она сидела к нему в профиль, и Коля вдруг поймал себя на мысли, что Маша так красива, что даже страшно. Он перестал слушать Бальмонта, забыл про зрительный зал, про задание и только любовался ею, томимый предчувствием беды.
Коле передали записку. Он развернул и прочитал: «Ну как, понравились стихи?» Записку послали свои. Это был сигнал: бандиты рядом и только ждут момента, чтобы захватить Машу.
– Иди в вестибюль, – сказал Коля.
– Уже? – не то спросила, не то вздохнула Маша. Она незаметно взяла Колю за руку, сжала ее: – Я все время буду думать о тебе. А если что-нибудь… не так, – ты тогда прости меня за все… Я плохо о тебе иногда думала, обижала тебя. Мне всегда не хватало твоей силы, Коля. Прощай.
– До свидания, – сказал он. – Ты верь: все будет хорошо.
Маша ушла. Коля смотрел ей вслед и чувствовал, что не может сдержать подступивший к горлу комок. Уходила его любовь, уходила в неизвестность, уходила, может быть, на верную смерть.
Маша вышла на улицу. К ней тут же подкатил лихач, заулыбался во весь рот:
– Пожалуйте, мамзель, домчим в лучшем виде!
Лихач был молодой, черноволосый, красивый. Маша посмотрела на него и подумала: «Жаль, несправедливо это. Лучше, если бы все они были уродами…»
Маша села, попыталась улыбнуться:
– На Тверской, пожалуйста.
– А ну, залетные! – лихач огрел серых в яблоках лошадей.
Коляска покатилась, и тут же на подножку прыгнул какой-то мужчина. Сел рядом с Машей:
– Подвинься.
– Кто вы такой, что вам надо?! – Маша разыграла изумление, но внезапно осевший голос выдал ее. Незнакомец усмехнулся:
– Не понимаешь? А чего же тогда сипишь, ровно с перепою? Ты Жичигина бикса?
Лихач молча дергал вожжами и не оглядывался. Коляска летела по улицам ночной Москвы.
– Куда мы едем? – спросила Маша.
– На кудыкину гору… – попутчик покривил уголком рта. – Золотишко где, знаешь?
Маша не удостоила его ответом. Она правильно рассудила про себя, что пока нужно, как ей разъяснили в уголовном розыске, держать стойку, а сдаться, выдать клад – только после того, как возникнет достаточно серьезная угроза.
Лихач свернул в переулок и стал.
– Выходи, – попутчик спрыгнул и протянул руку.
Маша медлила, и тогда бандит ловко выдернул ее из коляски. Она попыталась кликнуть, вырваться, но он завернул ей руки за спину, замотал голову какой-то тряпкой и поволок. Маша начала толкать его, но ее больно ударили под ребра, и она бессильно обвисла у бандита на руках. Очнулась она в маленькой комнатке с низким потолком. Тускло светила грязная лампочка. Напротив сидел Кутьков и нехорошо улыбался.
– Ну, мамзель, расцвела, – протянул он. – Видишь, гора с горой, как говорится, не сходится… А ты, я слыхал, за лягавого замуж вышла? Ну-ну, не дергайся, я женского взгляда не боюсь. Не сверли меня глазками-то, а то, не ровен час, и я возбудиться могу, а тогда, – он махнул рукой, – муженьку твоему рожки да ножки останутся… Говори, где жичигинский клад?
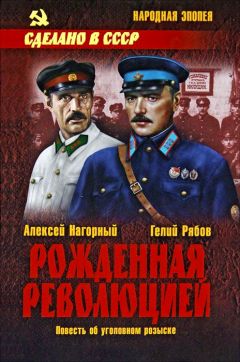
![Алексей Нагорный - Повесть об уголовном розыске [Рожденная революцией]](https://cdn.my-library.info/books/193625/193625.jpg)

