Автомобиль тронулся. Коля долго смотрел назад – до тех пор, пока трех дорогих ему людей не скрыл поворот улицы.
Мы жили тесной, дружной семьей, мы были спаяны общей опасностью. Мы знали преступный мир и преступный мир знал нас и знал хорошо, что нет ему от нас пощады и ни один из них не уйдет от наших рук…
Из записок генерала Кондратьева
Весной 1922 года в жизни Кондратьевых произошло значительное событие: исполком выделил им комнату в старом доме на Фонтанке, неподалеку от Симеоновского моста. Комната была небольшая, в коммунальной квартире, с тихими, вполне порядочными соседями: Ганушкин вместе с женой Таей работал на Балтийском заводе, Бирюков был холост и служил в Госбанке начальником охраны. С первого же раза все друг другу понравились: Тая подарила Маше выкройку летнего платья, а Бирюков предложил, как он выразился, «поднять бокалы за коммунальную дружбу, совет да любовь». За столом разговорились. Ганушкин сказал:
– Все понимаю, одного понять не могу: совершили революцию, облегчение народу сделали, а что теперь?
– Снова всякая сволочь к сладкой жизни рвется, всё за деньги, всё купи-продай! – горячо поддержал Бирюков. – У нас в банке беседу товарищ из обкома проводил… Оборот, говорит, советской торговли – двадцать шесть миллионов рублей, а нэпманской – пятьдесят пять. Безработных в Питере сто пятьдесят тысяч! Шутка сказать!
– Мимо витрин лучше не ходи, – горько махнула рукой Тая. – Сплошное огорчение.
– На витринах, как при государе-императоре, – неопределенно хмыкнула Маша, и нельзя было понять, то ли она осуждает возврат к прошлому, то ли одобряет настоящее.
Коля посмотрел на нее с укором:
– Видел я это… Тяжело. А истерики закатывать – ни к чему. Вон Трепанов пишет из Москвы: к гастроному на Тверскую бегает разная не очень сознательная молодежь. Смотрят на икру, на копченую колбасу, кто за волосы хватается, кто за маузеры – мол, лучше застрелиться, чем продолжать такую гнилую жизнь. Отступаем, мол, сдаем позиции. Чепуха! Сознательность надо иметь, тогда поймешь: да, пока мы отступили. Только временно это. А паникеров при отступлении расстреливают, между прочим. Товарищ Ленин так сказал.
– Оно, конечно, верно, – протянул Ганушкин. – Однако многие не понимают и осуждают.
– Все эти «отступления» рискованны, – сказал Бирюков. – Если государство хоть на миг перестанет контролировать торгашей и всяких деляг – плохо будет.
– Не перестанет, – сказал Коля. – А без деляг тоже нельзя. Как оживить торговлю?
Дискуссию прервал телефонный звонок. Коля вышел в коридор, снял трубку. Звонил Витька.
– Дядя Коля! – срывающимся голосом кричал он. – Тетя Маруся из Москвы приезжает! Телеграмму принесли! Поезд через час! Пойдете встречать?
– Пойду, – улыбнулся Коля. – Ты чего на новоселье не приходишь?
– Тетю Марусю жду! – крикнул Витька. – Только вместе с ней! Вагон третий, найдете?
– Найду, – Коля повесил трубку и вернулся в комнату. Соседи уже разошлись, Маша вытирала стаканы.
– Маруська приезжает, – сообщил Коля. – Пойдешь встречать?
Маша покачала головой:
– Сколько раз, Николай, я просила тебя не называть ее Маруськой!
– А как? – искренне удивился Коля. – Машей, что ли? Так для меня одна Маша – ты.
– Марусей называй, – улыбнулась Маша. – А вообще-то я до сих пор не могу понять: что это – просто совпадение имен или что-нибудь посложнее?
– Хватит тебе, – примирительно сказал Коля. – Обыкновенное совпадение, и ничего другого здесь нет, можешь мне поверить.
На вокзал ехали в трамвае. За окнами мелькали серые дома, шли уныло сгорбившиеся прохожие. Милиционеры с револьверами провели группу задержанных. Задержанные были одеты разношерстно, но шли весело, с прибаутками, словно никто из них и не догадывался, что многих ждет тюрьма, а некоторых – и «вышка». «А ведь каждый день попадают оголтелые, до мозга костей враги – настолько злобные и непримиримые, что иному „каэру“, контрреволюционеру, позавидовать…» – подумал Коля. Он вдруг вспомнил, как они с Машей два года назад вернулись в Петроград из Москвы. Он часто вспоминал об этом. И не потому, что чувствовал себя виноватым перед Маруськой. Просто до сих пор стоял перед глазами пустой перрон и две одинокие фигурки у края платформы: Маруська и рядом с ней Витька. Вспоминалось и другое: как вынес чемодан, помог спуститься из вагона Маше, сказал:
– Здравствуй, Маруся. Здравствуй, Витя. А это – моя жена, Маша.
Маруська улыбнулась через силу:
– Имя у вас красивое, как у меня. Это хорошо. Вы только любите его всю жизнь, ладно?
– Да… – растерянно кивнул Коля и подумал про себя: вот ведь какой колоссальной выдержкой обладает Маруська. Ничего не знала, а смотри ты. Виду не подала. А Маша переживает. Коля посмотрел на Машу: у нее лицо пошло красными пятнами.
«Сейчас будет охо-хо…» – только и успел сказать себе Коля, как вдруг Маша вздохнула и… улыбнулась:
– Здравствуйте, Маруся… Рада познакомиться. Надеюсь, мы станем друзьями. Во всяком случае, нам с Колей этого бы очень хотелось.
И снова Коля подумал про себя, что в чем-то дворянское воспитание имеет свои очевидные преимущества.
А Витька заплакал злыми, непримиримыми слезами.
– Лучше бы вы меня не нашли тогда, на Дворцовой! – кричал он сквозь слезы. – Лучше бы вы навсегда остались в своей Москве! Насовсем!
Маша попыталась обнять его, успокоить, но он вырвался и убежал.
Маруська развела руками – расстроился парень, что с ним поделаешь, а Коля сказал:
– Разве виноват я, если жизнь так повернула!
– Конечно, виноват. – Маша решила все обратить в шутку. – Знаешь, что все в тебя влюбляются напропалую – и взрослые, и дети, так проявляй осторожность!
С вокзала поехали к Бушмакину. Он обрадовался, расцеловал Машу, и тут же начал укладывать чемодан. «И думать не думайте! – решительно заявил он Коле. – Вы – семья, новая, советская, а я – перст, мне и кабинета хватит. И кончили об этом!»
Прошла неделя, минула вторая. Коля очень боялся, как сложатся отношения Маши и Маруськи, но шел напролом: приглашал Маруську в гости; по вечерам, когда изредка бывал свободен, тащил к ней Машу и с ужасом ждал, когда же разразится скандал. Но ничего не произошло. Маша и Маруська вместе ходили стирать, иногда, если были продукты, готовили по воскресеньям; когда не было дежурств или вызова на задание, Маша водила всех по городу и рассказывала о прошлом Петербурга. Знала она множество интереснейших подробностей: про 47 букв в надписи на фронтоне Михайловского замка и сбывшееся предсказание юродивой Ксении, которая на всех углах кричала, что император Павел умрет на сорок седьмом году жизни; рассказывала о казни декабристов, о том, как их тела везли ночью на Голодай, чтобы тайно зарыть на берегу залива, – и все слушали восхищенно и только вздыхали, по-хорошему завидуя ее памяти и умению рассказывать… А с Витькой у Маши так ничего и не получилось. Мальчишка дичился, разговаривал неохотно и всячески давал понять, что слишком красивая Маша просто-напросто обобрала простофилю Маруську.
…Пришел поезд. Из третьего вагона вылетела улыбающаяся Маруська. Витька повис у нее на шее. Потом Маруська расцеловалась с Машей, а Коле пожала руку и сказала:
– Знаешь, кто выступал? Сам Калинин! Знаешь, что сказал? Главное, говорит, свято блюсти революционную законность. И черепок знаниями наполнять! Я к нему в перерыве подошла, говорю – а мы все на вашем станке в «Старом арсенале» работали! Вы, спрашивает, давно в милиции? Говорю: с первого дня. Он – веришь – при всех меня чмокнул и говорит: это очень хорошо, что в нашей милиции работают женщины! Потому что присутствие женщины всегда смягчает нравы и облагораживает окружающих, делает их гуманнее. А советская милиция должна быть прежде всего гуманной, потому что она – детище самой гуманной революции всех времен и народов!
– Хорошо сказал, – согласился Коля. – Только вот Кузьмичев считает, что твое присутствие в управлении как раз мешает. И знаешь, почему? Другой раз на допросе надо бы и матом завернуть, а нельзя. Хоть ты и опер, а все – женщина.
– Кузьмичев ваш – дрянь, – непримиримо сказала Маша. – Карьерист.
– Думаю, что он посложнее, – нахмурилась Маруська. – Ладно, поехали домой, братки. Кстати тебе, Коля, самый горячий привет от Трепанова, Никифорова и Афиногена. Между прочим, ухаживал за мной… – Она улыбнулась.
– Афиноген? – удивился Коля. – Вроде бы он женщинами никогда не интересовался.
– Не-е… – Маруська покраснела. – Никифоров. Но я ему прямо сказала: однолюбка я. Все понял, отстал. И тут, говорит, этот Кондратьев мне дорогу перешел!
– Пирог я сделала, – вздохнула Маша. – Поедемте, засохнет. С картошкой пирог, редкость…
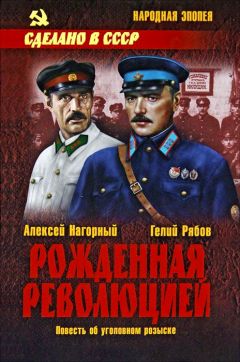
![Алексей Нагорный - Повесть об уголовном розыске [Рожденная революцией]](https://cdn.my-library.info/books/193625/193625.jpg)

