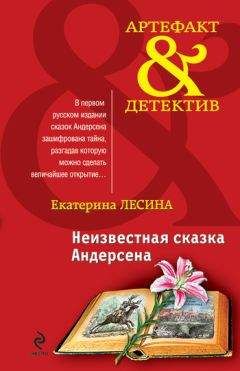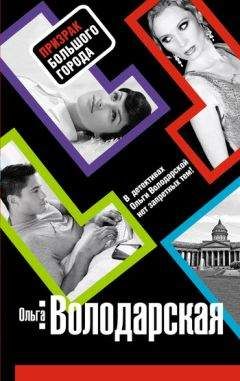– Уже.
– Что?
– Уже, говорю.
– Но простите, мне пока не сообщили. Вы уверены? Вы точно уверены?
– Я уверен.
Это море снова было диким, оно летело, неслось по берегу, накрывая и огромные темно-зеленые валуны с бородой из ракушек и водорослей, и остатки старой пристани, и даже вытащенные лодки, что лежали темными тушами.
Это море пыталось взобраться вверх по узким расщелинам, карабкалось пеной и теряло воду, серебряных рыб, раковины да крабью мелюзгу. И во время отлива, краткого отдыха, когда утомленное море отступало за камни, на охоту выходили чайки и мальчишки.
Те и другие шумели, бегали, суетились, пытались опередить друг друга, дрались и пугались, а море ждало своего часа, чтобы первой волной отпугнуть самых робких, а второй – всех прочих. Только Анке дожидалась третьей. Нет, правильнее было бы сказать, что она ждала именно этой, третьей волны, чтобы выйти навстречу.
– Здравствуй, – говорила она морю и скидывала деревянные ботинки, стягивала шерстяные чулки и закатывала подол старого платья. А море отвечало.
У моря множество голосов: скрипят корабли, поднимаясь с глубин, хлопают гнилыми парусами, ловя призрачный ветер, рокочут пушки, беззвучным звоном отзываются огни святого Эльма, а над ними летит песня, которую выводят тысячи и тысячи мертвецов.
Анке видела каждого из них. Анке не боялась, поэтому ее считали ведьмой. Или потому, что жила она одна, на самом берегу, выбрав местечко чистое, вылизанное волнами? Или потому, что хижина ее – поговаривали, что прежде хижины не было, что возникла она в тот день, как в городке появилась Анке, – по самую крышу поросла ракушками и не походила ни на один из домов, что строили люди. Или потому, что вокруг хижины поднимался забор из гнилых сетей, а сторожили его белые чайки? Или причина была иной?
Анке не спрашивала людей, люди сторонились Анке. И только море ее понимало.
На девятую волну, когда от берега уходили все, даже самые любопытные, Анке садилась на камень и принималась прясть… она ловила песни ушедших и тянула их на берег, привязывая к земле и к тем, кто рождался на ней.
Это было правильно.
– Нет! – мальчик уже кричал, не боясь разбудить родных. – Неправильно! Эта сказка должна закончиться иначе!
– Конечно, – улыбнулась Тень. – Ты напишешь ее по-своему.
– Я?
– Ты. Когда-нибудь ты поймешь, что миру очень не хватает сказок. Когда-нибудь ты захочешь поговорить с ним… но будь готов, мир не сразу станет слушать, а начав, не сразу поймет, о чем речь.
И Тень исчезла. А юноша, проснувшись, вдруг вспомнил, что ночью он был мальчиком и видел чудесную историю о девушке-русалке, которая не сумела найти слов и рассказать о своей любви и потому погибла.
Весь день он был задумчив и хмур, словно обижен за что-то и на остров Фюн, и на город Оденс, и на фабрику, и на матушку, и на прочих людей, ему казалось, что именно они своею суетой и представлениями о благообразной жизни украли мечту.
Это было неправильно. Недопустимо. И потому Кристиан ушел. Матушку было жаль, но когда он станет знаменитым, он непременно вернется.
Дашка не находила себе места. Она бродила из угла в угол, уговаривая себя бросить это бесполезное занятие и почти поддаваясь уговорам, но все же не прекращая брожение.
– Это неправильно, – сказала она себе зеркальной. – Это глупо в конце-то концов. Ну не приехал. Ну не отвечает. Не хочет, и все. Его право.
Но обидно, до чего же обидно. Еще пару – ну уже не пару, а много больше – часов назад она, Дашка, рисовала себе светлое будущее и уже почти верила. А он не приехал. И телефон отключил, тем самым снова вычеркнув себя из Дашкиной жизни, что было – нечестно это было!
Конечно, будь на ее месте кто-нибудь другой, более решительный, он – ну или правильнее сказать, она – немедля отправился бы в «Анду» и высказал все, что думает, прямо в лицо Ефиму.
– Это тоже не выход, – одернула Дашка сама себя, печально добавив: – И даже не вход.
Постепенно обида и сожаление исчезли, вытесненные рассуждениями, которые показались Дашке здравыми. Главное место в них отводилось вчерашнему происшествию – Дашка решила, что если называть убийство происшествием, то оно изрядно поутратит жути, – а также рассказу бывшего супруга. До сих пор не очень понятно было, стоит ли этому рассказу верить, а если верить, то стоит ли помогать?
А если помогать, то как?
Ближе к полудню она совсем было решилась сбежать ото всех, но и этого не получилось. Назойливый звонок, незваная гостья и позабытое обещание.
– Я так и подумала, что тебе не до чаепития было, – с порога заявила генеральша. – Я видела, что он возвращался! Умолял, подлец, принять обратно?
– Нет, – пролепетела Дашка, подхватывая коробку с тортом.
– Зря. И все-таки, милая моя, он подлец. Да, да, подлец, и не спорьте, я лучше знаю. Я подлецов насквозь вижу, даже супруг мой говаривал бывало: «Клавонька, а не глянешь ли вон на того офицерика, сдается мне, попахивает от него». А я и погляну, и бывает, что не попахивает – прямо-таки несет дерьмом. Уж извините за грубость…
Голос Клавдии Антоновны заполнял квартиру, сталкивался со стенами, и те вибрировали, порождая эхо, и стекла дрожали, и хрустальные бокалы за стеклом, даже старый телевизор, казалось, испуганно подпрыгивал.
Серьезной женщиной была Клавдия Антоновна.
– А ты, милая, печальна. Случилось что? Погоди, неужели этот подлец посмел претендовать на квартиру? Так, чай будем пить на кухне, нечего грязь разводить, мы не капиталисты какие, чтоб в комнатах буржуйствовать. Я и своему всегда так говорила: нечего барствам потакать. А он и рад, он у меня из простых, маменька-то сильно против была замужества нашего, а я ослушалась. Ох, господи, как подумаю, бедовая же девка… а ты тихая, любой обидеть может. Торт порежь.
Она умудрялась и рассказывать, и командовать – вела себя на Дашкиной кухне как хозяйка, но и мысли не возникало возразить, напротив, напористость генеральши вызывала уважение, да и сама она…
– Ножи тупые? Ну я всегда своему за ножи пеняла, а ему все некогда и некогда. Помнится, говаривал раньше, что не генеральское это дело – ножи точить, а я ему в ответ – сначала генералом стань, потом языком трепать будешь. И стал ведь.
Она вдруг замерла, сложив пухлые ладошки на груди, этакий монумент самой себе.
– Повезло мне с мужем, Дашенька, вот повезло же! Не пил, курил только, я ему пеняю, а он усмехается. Железный человек. Но и на железо управа имеется.
Глаза генеральши затуманились, но стоило раздаться свистку чайника, как момент слабости прошел, и Клавдия Антоновна снова вернулась в образ женщины строгой и не склонной к слабостям.
Пока генеральша колдовала над чаем, Дашка вновь задумалась над странностями последних дней: ведь никогда прежде, даже после развода, соседка не напрашивалась в гости. А тут пришла с тортом и своим особым чаем, который ей из Китая присылают.
– Садись, милая, пей, и будем с тобой говорить. Да, вижу, думаешь, зачем это старая карга пришла, неужели и вправду поболтать да чаю попить? – Клавдия Антоновна присела. – И права будешь. Дело у меня к тебе есть. Серьезное.
Вот так живешь-живешь, никому не нужен особо, а потом оказывается, что нужен, что у всех вокруг дела, и серьезные.
У Ефима, наверное, тоже.
– Ты не бойся, мне от тебя ничего не надо. Наоборот даже… вот и не знаю, с чего начать-то? Супружник-то мой умер, ты же в курсе. Да и кто тут не в курсе? Ну да не в том дело. Я скоро за ним уйду. Нет, не возражай, и так уже загостилась. Ты ж знаешь, каково это бабе одной жить. Тоска… а я его любила. Пусть что говорят, но любила. И он меня. И дочка у нас была, да, да, была, но вот…
Надо же, а Дашке прежде казалось, что одиночество генеральши – это нечто само собою разумеющееся, что просто характер у Клавдии Антоновны такой, что никому с ней не ужиться.
– Это не несчастный случай, не болезнь или что-то, с чем бы я еще могла смириться – Унизанные перстнями пальцы замерли над чашкой. – И он, знаю точно, не смирился, хотя и уговаривал. За меня боялся, что сердце станет… а хоть бы и стало, лишь бы паршивец этот наказан был! Ох, милая, вижу, мало что понятно тебе.
Это верно, очень мало.
– Дочку нашу Юленькой назвали, в честь Жорочкиной матушки, хотя я и против была, ну да ради него пусть и Юленька. Главное, что есть она. Любили. Баловали – а как родную кровиночку не побалуешь? Жорочка мой уж на что строгий порой, и на меня, бывало, прикрикнуть мог, а она улыбнется – и все, растаял.
Дашка попыталась представить генеральскую дочку. На кого та была похожа? На мать? Высокая, статная, в классическом понятии русской красоты с ее тяжеловесностью? Или на неведомого отца-генерала?
– Для нее-то все было… лучшее… а она из всех этого подонка выбрала. Алешей звали. Я как в первый раз этого Алешу увидела, сразу почувствовала, что дерьмо, а не человек. Но ей разве расскажешь? Для нее-то он – самый лучший. Вот и пришлось смириться: то ли Алешу этого терпеть в женихах, то ли дочку потерять. Со свадьбой, ясное дело, тянули как могли… а он вроде и не против. Придет, сядет, соловьем разливается про то, как он дочку нашу любит и жизни без нее не видит. Все бы ничего, но… вот глаза у него мутные были, наглые, и не на Юленьку глядел, а по квартире все, то туда нос сунет, то сюда, то выспросит, что там и что тут. И главное – видно же, что приценивается. Я Юльке и говорю, а она – в слезы, дескать, счастье ее сгубить собираюсь. Тогда бы нам надавить, увезти ее куда на месяцок-другой, а этого женишка поучить по-военному… И вот однажды приходит Юленька наша, сияет, что солнышко. И снова разговор про свадьбу заводит, про то, что быть ей скоро, что мы с Жорочкой ошибались и человека унижали, а он, если разобраться, побогаче нас будет. Ох, дурная история, гнилая… тогда-то не принято было деньгами мериться и многое иначе смотрелось, ну да не понять тебе. Я и сама не все-то понимаю. В общем, оказалось, что у Алеши этого бабка умерла да наследство оставила, и не абы какое – библиотеку. И книги там ну такие ценные, что прямо дороже всей нашей квартиры. А квартира, я тебе скажу, не чета нынешней была. И в квартире имелось, чай, были возможности. Ну да ты же знаешь, деточка…