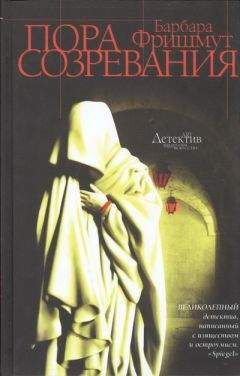Я продолжала возиться со свертком. Наконец удалось добраться до цели. Но что это? Содрав одну бумагу, я обнаружила другую — несколько скрученных рулоном плотных листов.
Я оторопела и чуть не выронила трубку, когда Унумганг крикнул:
— Оставьте все как есть! Я сейчас приду!
Откуда он знает про сверток? Неужели мои ощущения начали витать в эфире и закрадываться в чужие головы? Подобный феномен при циклическом, то есть круговом, течении времени наблюдается часто.
Стараясь говорить как можно более непринужденно, я переспросила:
— Что вы сказали? Откуда вам известно…
— Не хочу доставлять вам хлопоты! Я сам напросился, и было бы нехорошо заставлять вас печь пирог. От Зальцбергштрассе до вашего дома минут десять ходьбы, не больше: я скоро буду. Если непременно хотите, приготовьте чай.
Я посмотрела на часы: четыре. И на что только день ушел?
Положив трубку, я открыла пачку печенья, одно сунула в рот, остальные вытряхнула в вазочку, поставила чайник на плиту.
Раздалось невнятное хлюпанье. Я огляделась и ничего интересного не заметила. А заметила я, как Деде Султан потягивается в кресле и зевает так, что того и жди челюсть из сустава выскочит. Может, я слишком обильно полила ирис?
Я подошла к окну и увидела, как вдоль по улице спешит профессор, прикрываясь большим зонтом. Он был похож на Летающего Роберта.[7] Вот бы я не удивилась, если бы очередной порыв сдул тощего Унумганга с земли! Но у того ветра, что пригнал его, похоже, имелись иные планы.
Я открыла дверь. Вместе с профессором без всякого приглашения ко мне ввалился неудержимый поток сырого воздуха, словно сквозняк только и ловил момент, чтобы ворваться и разметать по кухне рулонные листы и газетные клочья.
Профессор в три прыжка достиг стола и вцепился обеими руками, но не в обрывки газеты 1934 года, отслужившие свое как упаковка, которые на месте историка культуры я сочла бы чрезвычайно интересными, а в желтоватые слежавшиеся страницы. Лицо Унумганга выражало такой триумф, что мне сразу стало ясно: марш-бросок не случаен.
— Ну-у-у! — выдохнула я, вложив в протяжное восклицание все свои подозрения. — Какое разочарование! Слухи о моей находке, полагаю, разлетелись в кругу посвященных со скоростью света, и каждый теперь жаждет собственными глазами… И на тебе!..
— Что «на тебе»? — Профессор послал брови к тому месту, где начиналась шевелюра.
— Пустые листы!
Пусть моя улыбочка и была ехидной, но ответную ухмылку профессора иначе как глумливой я бы не назвала.
— Дорогая моя! Может, вы и умеете писать, но ничего не смыслите в шрифте!
Теперь наступила моя очередь вздернуть брови, хотя столь сильно удивляться, держа чайник с кипятком, опасно.
— Это был лишь вопрос времени. Ваша случайная находка объявилась бы рано или поздно. Впрочем, случайность тут лишь то, что она попала в руки ничего не подозревающей дамочке. Позвольте вам напомнить, я задолго до этого дня говорил: подобная переписка существует и она обнаружится именно в наших краях.
Переписка? Я опустила на стол посудину с кипятком, вытащила ситечко-шарик из заварочного чайника, расставила чашки. Унумганг достал из кармана пиджака зажигалку, щелкнул и подержал над пламенем лист из свертка. Он заядлый курильщик, думаю, это немаловажная причина для того, чтобы расстаться с Америкой, прожив там шестьдесят лет. А на бумаге тем временем показались символы и значки…
— «Тысяча роз»! — осенило меня.
Но профессор был куда сдержаннее меня:
— Лишь когда шрифт проявится полностью, начнется настоящая работа!
— Надеюсь, с чтением не возникнет проблем, — лихо предположила я. — По-моему, здесь тридцать две страницы, не больше…
— Верная оценка! Но речь идет о том, удастся ли их расшифровать.
Я прочла предложение, проступившее под воздействием огня:
— «О нежнейший из братьев, мой живой свет, тот, кому ведомы тайны, расскажешь ли…»
Унумганг посмотрел на меня взглядом, полным сочувствия:
— Дорогая моя, неужели вы всерьез полагаете, что столь значительный документ был послан в мир открытым текстом? Поэты XX века отнюдь не первыми потеряли доверие к словам. С тех пор как четкие формулировки стали принадлежностью закона, который по определению призван беспощадно подавлять все мало-мальски свободное и живое, мыслящий человек недоверчиво относится к слову написанному и читает между строк.
Я плохо поняла, о чем он. Должно быть, это отразилось у меня на лице, потому что профессор снизошел до объяснения.
— Из чего состоят предложения? — спросил он, как спрашивают ребенка о цвете кубиков.
— Из слов, — не обманула я профессорского ожидания.
— А из чего состоят слова?
Я налила чай.
— Из букв. — Я указала на печенье.
Профессор согласно кивнул и взял одно.
— В том-то и суть.
Он потянулся за вторым печеньем, но не положил его в рот, а принялся размахивать им в такт рассуждениям о том, что у каждой буквы есть числовое значение, так же как в теологии и философии через числа выражаются разные понятия.
— Чтобы познать значение в значении, то есть скрытый смысл, неплохо бы нам привлечь математика.
Я сглотнула, хотя во рту ничего не было.
— Короче говоря, речь идет о самой примитивной ступени каббалы, тайного учения, которое опирается на нумерологическую структуру языка.
Итак, он вроде все сказал, и я могла спокойно попить чайку. Не тут-то было. Профессор опять завелся и стал растолковывать мне суть сефирота, числового значения, 22 букв еврейского алфавита, 26 букв — немецкого, 28 — арабского и 32 — персидского, погружаясь глубже и глубже в историю письменности.
При всем любопытстве и уважении, которые я испытываю к малоизученным областям науки, я не вынесла из речи профессора того, что неимоверно занимало меня: кто написал найденные письма? И почему весь мир, в том числе непознанный, мечтал перехватить мою находку? С первой же минуты, услышав по телефону профессора, я заподозрила, что он приложит максимум усилий, дабы выманить у меня свиток.
Унумганг любовно разглаживал и складывал ровной стопочкой листы, разглагольствуя о том, каким образом он собирается расшифровать смысл написанного. Внешне невинный жест, но, следя за его руками, разгадать истинные намерения профессора было нетрудно. И, пока он блуждал в буквенно-числовых соответствиях, я положила руку на мою находку и непреклонно, а иначе заткнуть фонтан красноречия было невозможно, потребовала:
— Да скажите вы наконец, кто и когда написал эти слова или числовые значения, как вам угодно их называть! Почему господин в шладмингере и две дамы на ярмарке, и вы, и журналист, и пастор, и бог знает кто еще интересуются рукописью так, что вскоре мне придется запереть дверь на огромный засов и впредь никого не впускать?
— И пастор? — уточнил профессор таким тоном, словно его подозрения подтвердились. Он придавил рукой стопку разглаженных листов, хотя я весьма недвусмысленно тянула ее к себе.
— Пастора не видела, но собака явно что-то вынюхивала. Но ведь это моя находка! И прежде чем я еще раз подпущу вас к ней с зажигалкой, ответьте: что я нашла?
— Дорогая моя, успокойтесь! — взмолился Унумганг. — И не торопитесь с выводами. Я вам все объясню, но, пожалуйста, не швыряйте в меня камни, если вам покажется, будто я чего-то недоговариваю. Я и сам многого не знаю, обхожусь слухами и догадками. С тех пор как эти записи… Сто лет считается, что они пропали. О, я уверен, это переписка между…
В дверь позвонили. Деде Султан, позабыв, что он кот, радостно затявкал и сиганул с кресла на пол. Унумганг же, напротив, замолчал с недовольной миной, демонстративно вынул часы и покачал головой.
Подходя к двери, я гадала: кто бы это мог быть? Наверное, соседка. Или дама, которая постоянно является за пожертвованиями и часто совсем некстати. Но я ошиблась.
Это был господин в шладмингере. Сегодняшнему дождю войлочная одежда соответствовала куда лучше, чем вчерашней жаре. Господин поприветствовал меня, а потом произнес по-немецки, правда с акцентом:
— Простите, что побеспокоил вас, но мне очень нужно поговорить с вами об одном деле. Пока меня кто-нибудь не опередил…
— Уже! — Я жестом пригласила его войти.
Он молниеносно устремился на кухню, и прежде чем увидеть озадаченные лица конкурентов, я услышала двойной возглас:
— Как? Вы здесь?
А это, в свою очередь, означало, что они друг друга знают…
Вбежав на кухню, я застала следующую картину: взъерошенные мужчины стояли друг против друга в боевой стойке, словно каждый видел перед собой черта.
Чтобы оценить зрелище по достоинству, требовалось выяснить, кто такой очередной гость. Тот, словно прочитав мои мысли, повернулся, опрометчиво подставив противнику спину, натянул на лицо улыбку и отвесил поклон: