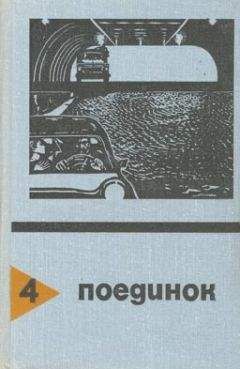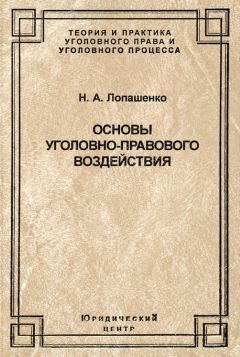— И только?
— Точно!.. Где, по-вашему, сподручнее лишить жизни — в доме или на улице? Скажем, ночью? А? Улица — пусто там, народу нет, благодать; в доме — соседи рядом, на любой крик сбегутся. Вот и выводите: по какой крайности его всё-таки в комнате убили? По какой такой нужде?.. Я ответственно говорю: по случайности…
Сейчас, много лет спустя, обретя и опыт и — да простится мне смелость! — некоторое знание жизни, я без труда нахожу в теоретических построениях Комарова промахи и изъяны. Но в тот день его логика показалась мне точной и неопровержимо аргументированной. Сидя на жестковатом учрежденческом диване, я внимал с открытыми, как говорится, ушами и единственно, что старался сделать — скрыть распиравший меня восторг. Тем более что закончил Комаров свою тираду самым лестным для меня образом, сказав, что я, как он догадывается, всё это и сам знаю, и он даже жалеет, что зря отнял у меня дорогое время, поскольку версии об убийстве на почве ревности или по неосторожности я, как он опять же догадывается, и хочу ему предложить разрабатывать в качестве основных и важнейших.
— Основных? — говорю. — И важнейших? Что ж, пожалуй.
И киваю — важно, с достоинством.
Закурил Комаров папироску, прищурился.
— Теперь, — говорит, — ещё с одного бочка заедем. Где искать? Тут, Сергей Саныч, я полагаю, вы мне так скажете: далеко искать не надо, через всю Москву с трупом в мешке не топают — риску много. И я с вами совершенно соглашусь. И из вашего резону исходя, замечу, что искать надо в соседних домах, в пределах квартала. Всеми способами, в том числе и по моей специальности, то есть личным сыском и оперативной работой. А с вашей, следственной, стороны есть один прием: опубликовать в газете. Всего, конечно, говорить не стоит, а по малости можно. Вы газетчикам факт дайте, а там они распишут; и пускай их, нам-то с вами немного нужно, чтобы всего одну строчку добавили: просим, мол, кто что знает, обратиться в прокуратуру лично или с письмом. Иногда здорово помогает.
С этой комаровской идеей я согласился не сразу. Не нравилось мне в ней то, что ставила она меня в глупое положение. Выходило, что я с самого начала расписывался в своей беспомощности и, как заблудившийся в лесу, принимался звать: «Ау, люди, спасите, выведите!» Кроме того, я вовсе не был убежден, что прокурор похвалит меня за подобную инициативу. Впрочем, Комаров на сей счёт придерживался иного мнения.
— Почему не похвалит? — спрашивает. — И свободно, что похвалит. Вы к кому обращаться думаете? К классовому врагу, что ли? Нет! Может, к преступному миру? Смешно даже! А с народом говорить — запрета нет. Ленин Владимир Ильич, когда трудно бывало, всегда к народу шёл. Или это вам не пример?
— Почему же, — говорю. — Пример — лучше не надо.
— Ну и лады. Тогда я с «Вечеркой» свяжусь… Да входи ты, не скребись!
Что фраза эта относится не ко мне, понял я, когда дверь пискнула и на пороге возник Комаров-младший с громадным жестяным чайником в руках.
— Уже?
Поставил младший чайник на пол и зашмыгал носом.
— Надоело, — говорит. — Что я, по-твоему, до ночи буду гулять? Вечер ведь уже!
Точно. За разговором прошел целый день. Маленький кабинет наполнился белесой синью, окна почернели.
Неловко я себя почувствовал.
— Извини, — говорю. — Это я твоего отца задержал. Ты, Пека, раздевайся, а я пойду.
— А чего извинять-то?
Сказал, и в голосе — непримиримость. Здорово обиделся.
Взял я шапку, потянулся за шарфом, но встать не успел; придержал меня Комаров-старший за плечо.
— Непорядок, — говорит. — Вдвоем работали, а голодать одни желаете? Не по закону это. Сымайте тулупчик, и милости прошу к столу. Давай стаканы, Пека.
Пека — он сновал по комнате, как маленький бесшумный челнок — вытащил три гранёных стакана, сверток какой-то, и — раз, раз — письменный стол под его руками превратился в стол обеденный. В центре чайник, на салфетке хлеб и колбаса, в блюдечке сахар, в каждом стакане — по ложечке.
— Садитесь, — говорит. — Кипяток-то стынет.
…И опять я не попал домой.
Разморило меня от еды и тепла, и задремал я. А потом и уснул, да так крепко, что почти не почувствовал, как перевел меня Комаров из-за стола на диван, положил и укрыл полушубком.
Разбудили меня голоса.
Сквозь сон не сразу разобрал я — где я и что со мной. А когда понял, то стыдно стало. До того стыдно, что зажмурил глаза что есть сил и притаился.
Молод я был. Ох как молод! И чего стыдился? Что устал на работе, а хорошие, добрые люди уложили спать? Разве ж это позор? Так нет, подсказало мне уязвленное самолюбие, что, дескать, в подобном положении есть что-то унижающее мое достоинство.
Лежу я, значит, с закрытыми глазами и придумываю фразу побойчее, чтобы встать с нею и уйти, соблюдая достоинство.
А из угла шепот:
— Ты мне про брильянты расскажи.
Это младший Комаров.
— Да рассказывал же…
Это старший.
— А ты ещё раз.
— Интересно?
— Спрашиваешь!
— Только потом чтобы сразу спал! Уговор?
— Честное слово под салютом всех вождей!
— Значит, делали мы обыск в Марьиной роще у одной спекулянтки марафетом, кокаином то есть…
Разве тут уснешь? Бриллианты и кокаин… «Но субинспектор не растерялся…» Я совсем притаил дыхание, но уже по иной причине — чтобы не упустить ни слова.
И вот что я услышал в ту ночь.
Прошлым летом, аккурат когда ты к тетке Марье в деревню ездил, всё и случилось. Арестовал Родионов из транспортной бригады жулика одного. Чего он к нему сунулся — и сейчас ума не приложу. Френчик на жулике был чистенький, брюки — торгсинского товара, документы в порядке. Я уж Родионова пытал: почему ты к нему? Нюх, говорит. Носом, говорит, учуял я его нехорошее нутро. Ну, это он так, для красного слова; вернее, что располагал данными, вот и вышел в цвет.
Растрясли мы здесь в МУРе его чемодан, вынули на стол вещи — бельишко, носки и, между прочим, курицу в газете. А чего ищем — и сами не знаем. Может, золото. Может, валюту. Или чего ещё. Родионов нам не говорит. Одно твердит: ищите аккуратнее.
А жулик тут же сидит. И очень протестует. Прокурора требует. А зачем прокурор, если есть ордер на обыск? Втолковали мы это жулику, понятых к двум ещё двух пригласили — для крепости, но только он всё равно сильно беспокоится. У нас, говорит, в дорогой моей Одессе, налетчик и то обходительнее вас. Костюм с тебя снимает и, чтобы не гулял ты, как библейская личность по родному бульвару Фельдмана, выдает тебе смену из утиля — носи, прикрывай мужскую доблесть. А вы, говорит, мне чемодан ломаете, а с кого новый спрашивать — с памятника гражданину Бебелю?
Разобрали мы чемодан на мусор и не нашли ничего. Куда теперь вещи ложить?
— Не ложить, а класть.
— Правильно: класть. Ты, Пека, за словами моими следи; если не так скажу, поправляй… И что за напасть: и книжки читаю, и за собой слежу, а язык — ровно как отдельный: сам по себе неправильно говорит…
— Па…
— Ну чего?
— Не чего, а что… Ты дальше рассказывай.
— И то… Я и думаю: куда обратно будем обмундировку класть? На жулика этого ордер есть — арестовать; следовательно, его в тюрьму препровождать надо; и вещи его должны быть с ним. А вот в чём? И ещё — что с курой делать? Куру в камеру ни за что не разрешат. Думал Родионов, думал, как с нею поступить, и говорит: чтоб тебе, гражданин, сегодня казенным ужином желудок не расстраивать, так и быть, пируй в последний разок, ешь свою куру. Только здесь, при нас. Тот — да нет, сейчас не желаю, позвольте с собой взять. А Родионов порядок соблюдает: или ешь, или опишем как вещественное доказательство. Уговорил. Взялся тот кушать, только кусочек отломил, а из куры сверток на пол — хлоп!
— А в нем юфта?
— Не юфта, а кокаин. Юфта и марафет — это на блатной музыке. Тебе ни к чему. Кокаин там был — двести граммов в порошке. Больших денег стоит… Родионов жулику и говорит: что ж вы, гражданин, замолчали? Сейчас, мол, самая пора языку нагрузку дать. Рассказали бы за родную вам Одессу, за вашу блатную жизнь и за то, где купили этот товар и кому везли…
Суток двое жулик у нас молчал. На третьи заговорил. И дал адресок одной старушки из Марьиной рощи. У неё, говорит, кокаин брал. Старушка эта прежде хазу держала, притон то есть, а теперь от этого дела отошла и перекинулась на наркотик. Большие с него капиталы имеет.
Оформили мы ордер на обыск у бабуси и поехали. Родионов за главного, я за помощника и агентов трое и понятые. Утречком пораньше и поехали.
Хорошо жила бабуся, аккуратно. Домик свой, садик при нём имеется с цветочками для продажи, поросенок кормится. Тихо у неё в садике, благодать. И цветы — гвоздики разные, ромашки, пионы махровые. Мать наша, Пека, такие против других сильно уважала. А при жизни, может, и имела всего два или три цветка. В цене ведь они. Вот когда хоронили её, товарищи складчину сделали и на могилу ей букет… Ты с рук у меня тянешься, голосишь и за цветы хватаешься. Дал я тебе один, ты и рад. Смеешься. То всё ревел, а тут — смеешься, и ничем тебя не остановить. А кончил смеяться и говоришь: пусти, к маме хочу. А матери-то нашей нет… Тебе три годика было. Помнишь? Очень ты смеялся…