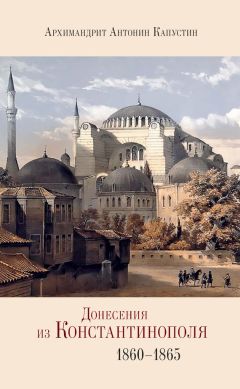«Погоди, дура. Папочка твой вечно жить не будет, а помрет, тогда мы еще посмотрим, чья возьмет. В конце концов, я тоже право имею. Я с тобой пять лет мучился, а теперь меня без штанов на улицу?! Нет уж, дорогая, ничего у вас не выйдет».
Кате было все равно. Она знала совершенно точно, что убьет его — выберет время, подготовится получше и убьет. Никто ее не остановит, даже отец.
Приехала мама, утешала, целовала, звала с собой, но Катя чувствовала, что и ей Катины проблемы в тягость — в Белоярске был Митька, которого мама изо всех сил жалела и любила, несмотря на все его скотство, и отец, расставаться с которым надолго она терпеть не могла. Катя хотела было рассказать ей, что собирается убить Генку, а потом передумала. Зачем рассказывать, еще волноваться станет, а ее, Катю, все равно не остановишь, — и почему-то все время вспоминался аэропорт, две звезды на зеленых ягодицах и остров Крит, купленный на Катины деньги.
Отец умер.
Мама умерла.
Митька пил, не приходя в сознание.
Почти ничего человеческого не осталось в желтом, чужом, скверно выбритом лице с обтянутыми куриной кожей скулами.
Ему было одиннадцать лет, а Кате девять, и в деревне он подстерегал ее и прыгал с крыши сарая, вопя и размахивая руками. Она пугалась, взвизгивала. Кидалась бежать, а он хохотал — сверкали зубы и веснушки на загорелом скуластом лице. Вдвоем они поливали огурцы, таскали ведра, и он всегда давал ей ведерко поменьше. Ели черный хлеб, сидя на приступке, шушукались и секретничали. Он никогда не выдавал ее тайн, а она брала на себя половину его проделок — потому что была младшая, да еще девочка, ей больше прощалось. Еще они бегали смотреть лошадей, и колхозный конюх дядя Егор всегда разрешал им покататься, и они мчались, обнимая ногами гладкие живые бока, и не было в жизни ничего лучше, чем эти скачки!.. Однажды зимой за домом они нашли пропадающую большую худющую собаку. Она лежала, свернувшись костистым кольцом, сунув сухой нос в жилистые лапы, почти занесенная снегом. Весь день они по очереди бегали ее кормить — она ела с равнодушным безразличием, словно знала, что ей все равно пропадать, что уж теперь!.. К ночи сильно похолодало, на черном небе высыпали крупные звезды, и Митька сказал, что на таком морозе к утру она непременно умрет. Катя знала, что родители ни за что не разрешат ее оставить, и, хоть ей было очень жалко собаку, она никогда не решилась бы ее привести, а Митька привел. Сделав решительное лицо, почти силком он втащил ее по лестнице, и уговаривал мать, и подлизывался к отцу, и наобещал кучу совершенно невыполнимых обещаний, и сам устроил ей подстилку из старой отцовской куртки, и клялся, что дальше коридора она никогда не пойдет и он сам всю оставшуюся жизнь станет с ней гулять, — и они сдались, родители. Митька так ее любил, что Катя даже ревновала. Альма, неожиданно оказавшаяся овчаркой, прожила у них двенадцать лет, платила «любовью за любовь», охраняла, сторожила, служила как могла. Самым главным человеком в Альминой жизни всегда был Катин брат, даже отца она любила меньше. Теперь Катя никак не могла понять и поверить, что вечно пьяный, трясущийся отвратительный мужичок в мятой одежде — ее брат Митька, тот самый, что с гиканьем несся на лошади, хрупал твердые зеленые огурцы на бабушкином огороде, тащил по лестнице больную собаку и всю ночь сидел возле нее, щупал нос и гладил худую, замученную морду.
Катя хотела забрать маму в Питер, знала, что без отца в Белоярске она жить не сможет, и мама согласилась — даже несмотря на Митьку.
«Может, мы его уговорим, Катенька, — все повторяла она, — он с нами поедет. Найдем там ему работу какую-нибудь. А? Вдруг уговорим?»
Катя соглашалась, хотя совершенно точно знала, что Митька никогда и никуда с ними не поедет. Зачем-то маме непременно нужно было повидаться с Инной Селиверстовой — Катя ее немного опасалась. Она была красива, остра на язык и, кажется, очень умна. Мама все повторяла, что «папа просил», а о чем просил, не говорила, да Катя особенно и не спрашивала.
Отца не вернешь — и не имеет значения, о чем он просил или не просил. Никогда и ничего не вернется — ни летний луг, ни отдыхающее поле с ромашками, ни разленившийся от жары Енисей, ни запах только что расколотого березового полешка.
Мама велела, и Катя шепнула Инне, чтобы та приезжала в Митькину квартиру. Мама собрала какие-то бумаги и потащилась туда — одна, в метель, даже шофера не вызвала потому, что была теперь не женой, а вдовой губернатора, — и больше Катя ее не видела. Ей только казалось, что видела — ее сознание проделывало немыслимые выкрутасы. Ей чудилось, что она поднимается по лестнице в Митькину квартиру, входит в прихожую, видит полоску жидкого света из кухни, но почему-то не идет на этот свет, а идет дальше в комнату, уверенная, что увидит там Генку и ту, с зелеными ягодицами и фиолетовыми волосами, и знает, что сейчас она его убьет, и ей полегчает. В руке у нее пистолет, похожий на детский игрушечный. Она поднимает руку, не целясь — зачем, она и так знает, что убьет! Пистолет отрывисто вздыхает, его сильно дергает вверх, и Катя видит, именно видит, как летит пуля, разрывая воздух, подрагивая от нетерпения. Но в комнате нет Генки. Там почему-то мама, которая падает замертво, как только пуля долетает и впивается в нее.
Мама умерла от сердечного приступа. Так сказал дядя Сережа Якушев. Не было никакой пули.
Не было, не было, Кате только почудилось, что была!
Под вечер прилетел Генка. Она даже сначала не поверила, что он прилетел. Он поселился в гостинице, был деловит и озабочен и не называл ее дурой — вызвался помочь с мамой, сказал, что им надо серьезно поговорить. Катя не могла говорить, она ничего не могла, да и сознание плавало отдельно от тела, хоть и довольно близко, но все же не настолько, чтобы Катя могла понимать и внятно отвечать на вопросы.
Бабушка всегда говорила отцу, что она «слабенькая», что пошла в «материну породу, а не в нашу, мухинскую».
Хорошо, что ей удалось уйти. На морозе в темноте сознание незаметно вползло обратно в мозг, и теперь она чувствовала себя немного лучше.
Вот кусты, жесткие и ледяные, даже сквозь перчатку. Вот доски под ногами, засыпанные нетоптаным снегом. Вот впереди чернота — что там, непонятно, но это даже хорошо, что непонятно, потому что Катя не могла больше видеть то, что понятно и привычно. Ей казалось, что, если она выберется на освещенную и людную улицу, с магазинами и автобусными остановками, ей тут же придет конец.
За серым забором глухо залаяла собака, пробежала, гремя цепью.
— Альма? — с надеждой спросила Катя и приостановилась. Собака опять залаяла, хрипло, сердито.
— Не сердись, — губами в забор сказала Катя, — у меня мама умерла. А собака уже давно умерла. От старости.
Потом она опять пошла. Только теперь ей все время чудилось, что за ней кто-то идет, топает сапогами. Ока несколько раз оглянулась, но никого не увидела. Собака, оставшаяся далеко позади, опять залаяла, и Катя поняла, что там все же кто-то есть — раз собака на него лает.
Она постояла и подумала, не вернуться ли ей, не посмотреть ли, на кого лает собака, но не решилась. Вместе с сознанием в мозг вернулся страх, ожил, зашевелился и потихоньку пополз по телу. Еще несколько минут назад ей было все равно, а тут вдруг оказалось, что нет.
Она оглядывалась, всматривалась в густые тени за спиной, потом заспешила и только усилием воли заставляла себя не бежать. Ей очень захотелось добраться до какой-нибудь освещенной улицы, с автобусными остановками и булочными, но впереди не было ничего похожего. Только фонарь на углу — желтый, раскачивающийся на скрипучей проволоке. Луч то падал на темные елки, то откатывался от них, и снег лежал теперь густо и плотно, только узенькая тропинка осталась. Настолько узенькая, что полами шубы Катя все время осыпала целые пласты снега, которые обрушивались в ее питерские ботинки, предназначенные для сырых европейских тротуаров, а не для белоярской зимы.
Господи, куда она забрела?! И как она сюда забрела?! И как станет выбираться?!
Теперь она точно знала, что сзади кто-то есть, она слышала отчетливое бормотание, словно шедший сзади сердился, что ему пришлось забраться из-за нее так далеко. Она была уверена, что он идет, чтобы убить ее, чтобы не осталось больше никого — ни отца, ни мамы, ни Митьки, ни ее, Кати.
Почему-то в этот момент она поняла, что умирать не хочет, не хочет и боится и отдала бы все на свете, чтобы только оказаться на улице, рядом с булочной или автобусной остановкой.
Шаги приближались, словно тот решился на что-то и решился именно сейчас, когда даже фонарь на скрипучей проволоке остался далеко позади.
Катя побежала, хотя понимала, что бежать нельзя — паника, вышедшая из-под контроля, убьет ее и без помощи того, кто подбирался к ней сзади. Полы шубы мели по сугробам, мешали бежать, да и вообще она никогда не была спортивной.