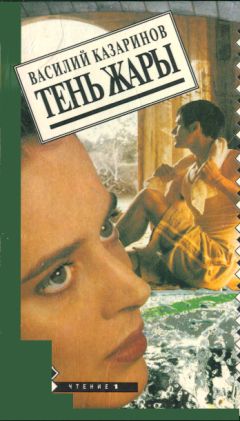Коротать время в очереди по соседству с этой жирной свиньей охоты не было, я отдал барышне ключи от машины, сказал, что пойду прошвырнусь. Если она присмотрит себе наряды до моего возвращения, пусть подождет в машине.
Я шел наобум, не отдавая себе отчета в том, куда и зачем направляюсь – пожалуй, в этой деловой, озабоченной, подвижной части города я был единственным праздношатающимся. Здесь все торопится, спешит, несется; и с девяти до шести уныло тянется однообразная мелодия над улицами – если, конечно, можно принять за мелодию шарканье тысяч подошв по асфальту*[26]. Когда-то, прежде чем погрузиться под землю, Китай-город не шаркал, а пел; голоса канареек, дроздов и клестов – особенно на Благовещенье – сливались в один живой, здоровый, сильный голос; он рассыпался по площади, и всякий, кого сюда приводила служебная надобность или весенняя прихоть, знал, что ему предназначено в этой россыпи отдельное зернышко. Подходили к клеткам из ивовых прутьев, давали птицелову денежку, грели в ладонях пушистый комочек, отпускали в небо.
Когда я видел в последний раз в Москве пунцовую манишку снегиря? Давно... Лет пятнадцать назад, а то и все двадцать.
Я свернул за угол. Там, во дворике, сколько я помню, притулилась крохотная пряничная церквушка с парадным крыльцом, в ней ютится, вроде бы, какой-то музей.
В глубине двора, под охраной голубых елей, уселась идиотского фасона коробка из стекла и бетона – глупый, плоский, холодный дом, младший брат кремлевского Дворца Съездов. Или, скорее, его внучатый племянник. К стеклянным дверям тоже присасывалась приличная очередь – сплошь из людей учрежденческой наружности. Они стояли молча, аккуратно, друг другу в затылок. Аккуратность строя дрогнула, хрустнула, сломалась – стеклянные двери-распашонки шарахнулись внутрь, очередь торопливо потекла. Я закурил... Я успел выкурить пару сигарет, прежде чем из стеклянного дома хлынул обратный поток; на его плавной волне теперь покачивались пакеты, авоськи, сумки, свертки…*[27].
Я двинулся переулком вниз, к площади, и почувствовал спиной: сзади что-то случилось. Напротив церковного крылечка в совершенной растерянности стояла интеллигентного вида женщина, а по асфальту наперегонки неслись яблоки. Она перегрузила пластиковую сумку –ручки лопнули, пакеты вывалились на землю. Публика, обвешанная авоськами, в замешательстве посторонилась, освобождая продуктам путь. Яблоки неслись, огурцы катились, сосиски ползли по-пластунски. Ногой я остановил крупный плод, потом еще один. Протер их платком, помахал – в знак благодарности – кормушке.
Яблоки пахли югом.
Секретарша ждала меня в машине.
– Откуда это? – спросила она.
– Так... Один приятель просил тебе передать. Лично из рук в руки.
– Это кто ж такой?
– Змий.
11Она распустила губы в лукавой – типично лисьей улыбке; она медленно, внимательно полировала твидовым манжетом зеленый, с красной подпалиной, яблочный бок – и твид наносил на плод слой прохладного бутафорского блеска. Я следил за ее священнодействием... За тем, как она двумя пальцами держит плод за черенок и осторожно укладывает его в ритуально приподнятую на уровень лица лунку ладони. Как, склонив голову, сузив глаза, разглядывает плутание красного тона в зеленой кожице – его медленное, словно движение кляксы, клюнувшей промокашку, разрастание. Как, не спеша, она сдвигает взгляд в мою сторону и, наконец, пепельные ее и восхитительно-влажные (как я этой влаги прежде не замечал?) глаза застывают в откровенно порочном искосе. И как она, не меняя острый угол зрения, несет яблоко к тонко улыбающемуся рту, а рот медленно, медленно распахивается, но в последний момент наплыв ее ладоней-лодочек со священным грузом приостанавливается – и все это я наблюдаю, кажется, целую вечность.
Мне кажется, я слышал ее – вечности – дыхание в затылок; она растекалась по заднему сидению и внимательно наблюдала, как души первоженщины и моей попутчицы плавно соединяются, входят друг в друга и друг друга – обнимают.
– Ешь быстрее! – я резко спустил ручник. – Иначе нам придется заняться этим прямо здесь.
Она алчно – широким захватом – атаковала плод; капля мутноватого сока вспухла в уголке ее рта.
12Машину я поставил во двор, под самое окно – с тем расчетом, чтобы, в случае чего, обеспечить прицельность гранатометания. Машины теперь курочат едва ли не каждую ночь. Если этих ночных дел мастера облюбуют мою, я открою окно и стану прицельно метать в них тяжелые бутылки из-под шампанского. До тех пор, пока не проломлю кому-нибудь из них башку.
У моего дома два хода: обычный и черный – тот, что выходит во двор.
Если идешь черным ходом, тебе предстоит в совершенных потемках, медленной, осторожной ощупью преодолеть два лестничных пролета, свернуть направо, к моей двери, и нащупать на уровне человеческого роста звонок. Хорошо, что походка у лестницы с черного хода мелкая, семенящая, и ступеньки не подставят привычному человеку подножку.
– Дай руку... Да не цепляйся ты за перила! Давай за мной по центру. Вот так, вот...
– Почему по центру? – спросила она.
О, это священный ритуал. Если бы путь наш не был во мраке, если бы чуть выше – там лестница переламывается, образуя узкую посадочную площадку для почтовых голубей (здесь у нас расположены ящики для корреспонденции), над ящиками сигналил нам маячок лампочки, ты бы смогла заметить, что плоский серый камень ступеней по центру слегка подтоплен, промыт светлыми впадинами...
– Чувствуешь?
– Что? – переспросила она.
Чувствуешь – в плавные изгибы этих впадин затекло вещество нашего старого доброго неба, затекло и успокоилось навеки: ночные вскрикивания младенцев, тяжелый пот мужчин, занятых грубым, честным трудом, и ревматические стоны женских поясниц, быстро ржавеющих во влажном пару кухонных прачечных; и еще там есть скупые мужественные слезы детей, скрипящих зубами и по-собачьи выворачивающих скошенные глаза – дети следят за свистящим полетом тяжелого отцовского ремня; и есть оглушительное буйство свадеб, и медная густая лава похмельного похоронного оркестра, и теплый гейзер шампанского на именинах, и чуткое караульное бдение поминальных ста граммов под хлебной корочкой; и кровь, и пот, и слезы – такова эта сладкая влага, всю жизнь питавшая просторы нашего старого доброго неба.
Люди говорят – эти впадинки протерты грубыми башмаками жильцов – дом-то стар, он поселился у нас, в Агаповом тупике, еще в прошлом веке; когда-то, говорят, это был доходный дом.
Однако я твердо знаю – нет, не протерты.
Не протерты, а промяты – Господи, какие же тяжести надо было в себе носить, чтобы вот так прогнулся камень!
Дверь на втором этаже приветствовала нас – узкой полоской света.
Это все Музыка... Он, как и большинство барачных людей, пользуется черной лестницей. И часто забывает закрывать дверь.
Наверное, Музыка опять был со своей "старушкой" мандолиной на рынке, и ребята во фруктовых рядах ему налили.
За его дверью журчала мандолина.
– Это твой сосед? – она прислушивалась, склонив голову на бок.
– Можно считать, кровный брат...
Да, мы были братья – в нашем старом добром небе.
– Что он играет?
– Да ничего он не играет... Он просто – ждет.
– Ждет? – она вопросительно изогнула красивую бровь.
– Ну да... Когда с потухшей елки тихо спрыгнет ангел желтый. Спрыгнет, погладит по голове и скажет:
"Маэстро! Вы устали, вы больны... Говорят, что вы в притонах по ночам поете танго... Даже в нашем добром небе были все удивлены!" – вот что скажет...
– Это, кажется, стихи?
– Нет.
Стихи вмерзли в бумагу, но разве можно уложить в белый лист все это: тонкие, полупрозрачные руки, матовое лицо в темном пространстве сцены, где в углу, невидимый, тихо стонет рояль аккомпаниатора? И уложить это-особое-течение фразы, слегка подточенной изысканной картавостью... Нет, Вертинский и бумага плохо между собой ладят.
Я кивком указал на дверь: нам туда.
– Свет зажги! – потребовала она.
Я зажег.
Она стояла в центре комнаты, смотрела на меня в упор – и опять, как совсем недавно в машине, на губах ее созревала лисья улыбка... Однако эта улыбка и этот взгляд существовали совершенно самостоятельно, автономно – от ее змеиных телодвижений; от вялого сползания со спинки стула ее твидовой змеиной кожи; от легкого покачивания бедер, понуждающих юбку к медленному стеканию вниз, на пол; и от короткого, как видно, хорошо оттренированного шажка вперед – через твидовый же круг, мягко обволакивающий щиколотки.
– Тебе надо повесить зеркало на потолок, вот тут, прямо над нами, – заметила она после, когда мы лежали и тупо смотрели в потолок.