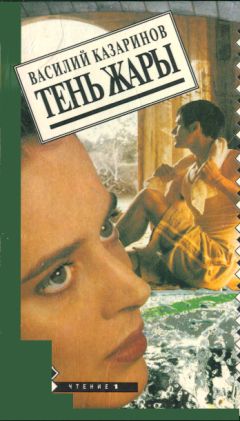– Тебе надо повесить зеркало на потолок, вот тут, прямо над нами, – заметила она после, когда мы лежали и тупо смотрели в потолок.
– Еще чего!..
В самом деле – еще и видеть эти сцены, еще и участвовать в высоких играх отражений, бурлящих в потолочной плоскости – не слишком ли?
– Это было неплохо, ведь так? – она мягко наваливалась на подпорку локтя, заглядывала мне в лицо. Я что-то невразумительное промычал в ответ. Если во мне после и сохранялись остатки голоса, то они имели не прочное, на жесткий артикуляционный каркас нанизанное, качество человеческой речи, а представляли собой некую густую сжиженную материю звука.
Мне просто страшно хотелось спать.
Но спать было нельзя; спать на работе – это, говорят, грешно, а я находился именно на работе и чувствовал на груди широкую бурлачную лямку; эту лямку надо просто тянуть, тянуть, тянуть – чтобы хоть немного подвинуться к смыслу нашего сюжета...
Она явно не была расположена обсуждать интересующую меня тему и говорить о Виктории. Но я упорно тянул, я наваливался всей грудью на лямку, не обращая внимания на предательский хруст суставов и тупое, басовое гудение натянутых жил: так что там Виктория, что с ней?
Наконец, она раскололась.
– Ее трахнули... Вернее, нет, не так. Трахали. Долго, методично. Солдаты.
– Солдаты? Откуда ты знаешь? Про солдат, про... Ну, вообще про все?
– Она мне рассказала. Только мне. Я ведь была у нее в Кунцево.
– Насколько мне известно, она... Как бы это сказать? Немного спятила.
– Спятишь тут! По десять солдатиков в день... Хотя Виктория – железный человек. Она – между нами – в достаточно здравом уме. Это ее легкое помешательство – оно так, больше для отвода глаз. Врачи кое о чем догадываются... Этот отчаянный трах-перетрах, в который она поневоле попала, – все это может выплыть на поверхность. И ей пока надо чем-то... – она задумалась, подыскивая слово, – обороняться... Обороняться, понимаешь? Хотя вы, мужики, этого не понимаете.
Ну, отчего же, я понимаю: обороняться, симулировать провалы в памяти: ничего не помню, ничего не видела, уберите черные рожи, от них пахнет зверем – понимаю.
– Она должна помнить, обязана. Хотя бы смутно, обрывочно... Чем ее? Газ?
– Ну да, кто-то шмальнул в лицо. Она спустилась за газетой – и ее приласкали.
– Кто? Она его видела?
– Скорее, слышала... Он покашливал.
– Надо тут же было делать ноги!
Она села на кровати, подтянула колени к груди, замкнула их в кольцо рук и так сидела, слегка покачиваясь, – довольно долго сидела.
– Я же тебе говорила... Виктория – железный человек. Она ни хрена не боится. Ни бога, ни черта не боится!
В дальнем конце двора затравленно, жалобно заорал "автоаларм". Опять чью-то машину потрошат.
Она дернула плечом:
– Бог с ней, давай спать.
– Давай... Только давай именно – спать.
– Ага. Мне завтра надо быть в форме. С утра у шефа какие-то переговоры... – она лежала, забросив руки за голову, долго лежала, потом приподнялась, оперлась на локоть.
Она смотрела на меня в упор, и в ее лице медленно зрела завязь какого-то нового качества; его аромат был достаточно тонок и прост, терпок и незамысловат – так пахнет высохшее на июльском солнце подмосковное поле.
– Мне будет кое-чего не хватать теперь...
Занятно – чего же? Наверняка она зарабатывает в конторе достаточно, чтобы не испытывать недостатка ни в чем: ни в жратве, ни в красивой шмотке, ни в возможностях приятного времяпрепровождения.
– А ты ж не по-о-о-о-нял, – разочарованно произнесла она, в ее растянутом, слегка изогнутом кверху оо-о-оп звучала укоризна.
Я заставил себя оторвать затылок от подушки. Это была интонация не совсем того персонажа, характер которого я про себя считал законченным, не требующим каких-либо правок и редактур.
– Это яблоко... Ну то, которым ты угостил меня...Что это за сорт? Где их можно купить?
– Купить их нигде нельзя, – сказал я. – Они растут в моем личном саду.
Наутро я рискнул подойти к платяному шкафу, отгораживающему кровать от двери, и заглянуть в мелководную, подмытую по краям грязными разводами муть дверного зеркала.
Оттуда, из зазеркалья, на меня уныло глядел кто-то из персонажей известной картины "Бурлаки на Волге". Да, один из передовых тягловых – тот, худой, сутуловатый, с трубкой в зубах. Только, вместо трубки, во рту он держал сигарету.
13Славное же Виктория выбрала себе место для прогулок.
Уверенная, без затей, фантазия дорожного проектанта полоснула местность наотмашь, оставив в сером унылом поле прямой шрам трассы. С обеих сторон к асфальту подтекали черные, лоснящиеся океаны взрыхленной земли – абсолютно штилевые. Над ними не то что буревестник гордо не реет – даже вороны. В кюветных лужах лежали туманные оттиски близких облаков – похоже было, что это прибалтийские фотохудожники разложили вдоль дороги свои психоделические пейзажи. В этих пейзажах, состоящих из кипящего черного неба и белых дюн, в изгибах песчаной волны иногда прорастает холодная, стеариновая, обнаженная натура.
Так оно и тут выглядело – только натура была в шелковом халате.
Чтобы дотянуться до горизонта, трассе пришлось напрячься и вползти на пригорок, поросший низким прямым леском. Создавалось впечатление, что пригорок стрижен под "ежик". И вообще в этом пейзаже было что-то от Александра Федоровича Керенского – в профиль.
Желающему познать уныние – в самой его сути – следовало бы приехать именно сюда.
Впрочем, я здесь не за тем. Ленка примерно очертила мне координаты того места, где "дальнобойщик" подобрал Викторию. С ней развлекались солдаты – это я тоже выяснил. Значит, где-то неподалеку есть воинская часть.
Примерно в километре от взгорка трасса выдавливала из себя узкую, изгибающуюся серпом дорогу; на кончик бетонного серпа накалывалась березовая рощица.
Я поехал туда и через пару минут уперся в железные ворота, во лбу у них горела алая звезда. Поставив машину на крохотном паркинге справа от ворот, я двинулся вдоль бетонного забора. Пахло прелью и сырым бетоном; где-то высоко над головой небо медленно сверлил тихоходный самолетик; я поискал его глазами, не нашел, зато провалился в ямку с жидкой черной грязью.
Меня окликнули.
Он сидел на заборе – воин в расхристанной гимнастерке – и вдумчиво покусывал березовый прутик.
– Друг, сыгарэт есть?
Он азиат: блиноподобное лицо, узкие глаза – с такими темными лицами хорошо жить в степях Калмыкии. Должно быть, за забором томится стройбат.
– А командыр не заругат? Курыть солдату вредно!
Он обнажил белоснежные зубы – соскочи на эти зубы солнечный зайчик, я бы, наверное, ослеп – всем бы нам вот такую отполированную здоровым образом жизни челюсть.
– Н-э-э-э-э... Я этот командыр... – он развил мысль замысловатым выражением, сообщавшим, где он командира видал и как он командира имел. Я протянул ему сигарету, он тут же закурил, алчно затягиваясь.
– У вас тут что? – Я кивнул на забор. – Степная калмыцкая сотня на постое? Кони наши быстры, шашки наши востры?
Солдатик захохотал.
Я пошел дальше, но что-то меня тянуло вернуться.
Солдатик был темнолиц – вот-вот! – именно темнолиц.
"Уберите черную рожу!"
У него была именно такая рожа.
Солдатик сидел на месте; он успел искурить сигарету дотла и теперь пробовал затянуться фильтром.
– Еще есть?
Я сказал: есть – но пусть он спрыгнет ко мне. Если спрыгнет, получит пачку.
Воин зыркнул через плечо. Не обнаружив в расположении части ничего тревожного, он легко соскочил с забора и молча протянул руку. Я отдал ему полупустую пачку и вытащил из кармана свежую, нераспечатанную. Левой рукой он взял первую, правую протянул за второй.
Я спрятал сигареты в карман.
– Пара слов – и они твои.
Солдатик картинно развел руками: дескать, вах! какая разговор!
– Тут была баба.
Он мелко-мелко, на восточный манер закивал:
– Был женчин, был...
– Одна?
– Зачем одна? Нэ-э-э...
– С ней был мужик?
Он и бровью не повел. За что люблю восточных ребят, так это за то, что их ничем не удивишь.
"Был мужик, хороший мужик, сигарет давал, водку давал, женщин давал, только больной он – кашлял сильно...".
– Как это – женщин давал?
– А так давал, пришел сюда, говорит: эй, парень, женчин хочешь? Солдат всегда женчин хочет. Хорошо, говорит. Собери своих чурок человек десять. Только чурок, понял? Русских не бери, только ваших, понял? Вечером придешь к кладбищу. Знаешь сторожку там? Заброшенную?
– Ничего себе, самоходы... По десять-то человек?
– Э-э-э, – скривил солдатик рот, – тут теперь...
Да уж, теперь легче дышится, смыться не такая проблема, как прежде, – тем более в стройбате.