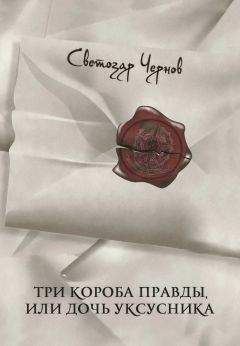— А, так вот в чем дело было, — сказал Фаберовский. — Да только он же нищий!
— Как же! Нищий! Ха! — Кухмистер хмыкнул. — Покорнейше просим уделить мне минутку для разговора наедине у меня в кабинете — я вам все разъясню.
— Добже, — сказал поляк. — Заодно у меня будет к пану ответственное поручение по части нашей с Артемием Ивановичем службы.
— Всегда готов услужить, — расплылся в улыбке Петр Емельянович. Он распахнул дверь в гостиную и объявил: — Милости просим, гости дорогие!
Газовый вентиль справа от двери в гостиную был торжественно отвернут, и пятирожковая люстра на потолке загорелась еще ярче, осветив остававшиеся в полутьме углы комнаты. С дивана навстречу гостям поднялись три дамы.
— Вот, господа, знакомьтесь: моя жена, Агриппина Ивановна, и дочки: Глафира и Василиса.
Дочки кухмистера пошли не в отца: они были бы воплощенным идеалом московского купечества: коренастые, с пухлыми плечиками и ручками, с длинными густыми косами и типичными широкими ярославскими лицами, когда б не толстые носы-картошки, портившие всю красу. Мать их была из той же породы: рыхлая, широколицая, с толстыми, унизанными золотыми кольцами пальцами на полных руках.
— А запах-то какой! — шепнул на ухо поляку Артемий Иванович.
— Уже из ямы выгребной? — не понял поляк.
— Нет же, из столовой.
— Вот, Катенька, займи нашего гостя, а мне с господином Фаберовским кое-чего обсудить надо, — сказал кухмистер жене. — Пойдемте ко мне в кабинет.
Он взял поляка под локоток и провел его через столовую, мимо роскошно сервированного круглого стола к себе в кабинет, где усадил гостя в удобное кожаное кресло.
— Давайте, прежде чем перейти к вашему делу, обсудим мое, — сказал Фаберовский.
Кухмистер полез было в бумажник, но поляк жестом остановил его.
— Дело состоит в том, что наше ведомство исключительно интересуют инженер Варакута и его соседи.
«Проворовался, кот гладкий, — подумал кухмистер. — Хорошо, что я не поторопился и Глашу за него замуж не выдал».
— А квартира пана кухмистера — удобный пункт наблюдения за его домом.
— Так вы хотите посадить здесь своего человека?
— Нет. В нашем ведомстве не сомневаются в ваших верноподданнических чувствах и поэтому я намерен поручить наружное наблюдение за упомянутым домом вашему семейству.
— Одну, Бог даст, сплавлю, а второй и не останется ничего больше, как в окно глазеть… — пробормотал под нос кухмистер. — Почту за честь.
— Тогда раз в два дня я буду наведываться к вам, и просматривать журнал наблюдения, в котором необходимо помечать точное время прихода и ухода различных людей, не проживающих в доме госпожи Балашовой, с описанием их внешности.
— Вот и образование пригодилось, наконец, не зря я дочек в пансион отдавал.
— Ну, теперь можно и о вашем деле потолковать, — сказал поляк.
— Дело мое состоит в том, что ваш подчиненный является наследником крупного капитала, оставшегося за его отцом. И он об этом, похоже, пока не знает.
— А пан кухмистер, видимо, пытался на этот капиталец лапу наложить, пользуясь своей однофамильностью, так?
— Каюсь, был грех.
— И какова сумма?
— Сто тысяч рублей.
Поляк даже присвистнул.
— Этакому дураку да такое богатство!
— Вот и я о том же подумал, — признался кухмистер.
— И пан решил прибрать денежки, оженив его на своей дочке? Умно.
— Уж помогите мне, ваше высокоблагородие, за благодарностью дело не станет. — Кухмистер проникновенно посмотрел в ошалелые от известия глаза поляка, но увидел в них только черную зависть.
«Интересно, даст ли пан Артемий мне денег на дорогу к жене в Якутск? — думал в это время Фаберовский. — Свою-то он теперь бросит, зачем она ему нужна. Лишь бы только перед отъездом сюда он ее обрюхатить не успел…»
— Ну, что вы скажете? Мне все равно другим путем до капитала не достать, так я сейчас ему принужден объявить буду. Надо бы только, чтоб капиталец он мне отдал, а я уж его с дочерью содержать буду пристойно.
— Пять тысяч.
— В день свадьбы.
Они ударили по рукам и кухмистер пригласил Фаберовского пройти в столовую.
***
Хозяйка усадила Артемия Ивановича рядышком с собой на диван, а обе дочки поместились на диване напротив. От печки в углу накатывало тепло, в нагретом воздухе пахло рождественской елкой, стоявшей в противоположном углу. Артемию Ивановичу внезапно стало дурно. И дурнота эта была какого-то странного, непривычного свойства. Сперва он подумал, что эта щемящая спазма произошла от дивного запаха кулебяки, доносившегося из столовой, но только щемило в каком-то странном месте, где отродясь у него не было ничего неблагополучно — в груди между животом и глоткой.
— Как у вас тут хорошо! — вырвалось у него. — Как у моего батюшки было в доме!
Двадцать лет уж минуло, как после смерти отца был он выброшен в этот мир из отчего дома и бродил неприкаянным, не имея за душой ничего, кроме нерегулярного казенного жалования.
— Вот и чувствуйте себя, как дома, Артемий Иванович, — сказала хозяйка. — Петр Емельянович всегда вам рад будет. Он так много рассказывал о вашем батюшке.
— Бывало, помню, приедут на Рождество Поросятьевы к нам в гости — матушка моя была урожденная Поросятьева, — а падчерица ихняя, Дарья, сядет за фортепьяны и играет на них, и кулебякой пахнет, как у вас сейчас, а потом подарки под елку кладут. Мне как-то раз батюшка лошадку деревянную подарил, настоящей шкурой обтянутую, а хвост с гривой из конского волоса.
— А мне папаша колечко на Рождество вчера подаривши, — сказала одна из дочерей, помеченная синим бантом в косе.
— Молчи, Василиса, Артемию Ивановичу не интересно, что тебе подарили, — оборвала ее мать. — Сыграй лучше гостю на пианине. А ты, Глаша, спой. Вы любите пение, Артемий Иванович?
— Да я и сам могу петь. Мы, бывало, с дядей Поросятьевым летними ночами так в саду пели, что все лягушки в пруду замолкали. Я однажды так серенаду спел, что коровы с поля пришли послушать.
— Думали, бык ревет, Артемий Иванович! — покраснела Агриппина Ивановна.
Василиса села за фортепьяно, а Глафира, меченая розовым бантом, встала рядом, приготовившись петь.
— Ну, до чего же тут у вас хорошо! — Артемий Иванович никак не мог справиться с нахлынувшими на него эмоциями. — И лампадка у киота рубинового стекла, как у батюшки, и иконок чертова дюжина, совсем как у нас, и печка в таких же изразцах… Так бы и женился на вас, любезная Агриппина Ивановна… Как представлю, что все это мое…
— Да как же на мне-то, миленькой! Я ж в замужестве законном состою, за Петром Емельяновичем.
— Подумаешь! — беззаботно сказал Артемий Иванович. — А мы вашего мужа в Сибирь!
В гостиной наступила тишина, нарушаемая жалобными стонами пианино под неумелыми пальцами Василисы и скрипом педалей.
— Да я как-то привыкла уже за Петром Емельяновичем, — сказала, наконец, хозяйка. — Может вы, миленький, не на мне… вот дочки мои еще в девичестве…
— Ну что вы, маменька, говорите! — вмешалась Василиса. — Артемий Иванович кавалер видный, он на нас и смотреть не будет!
— А вот и смотрю! — возразил Артемий Иванович. — Они у вас обе в девичестве?
— Обе. Может, какая приглянется?
— Маменька, Артемий Иванович и без ваших дурацкий указаний знает, чего делать! — сердито буркнула Глафира.
Глупая улыбка расползлась по лицу гостя. Он забыл про все — и про службу, и про жену в Якутске, и про поляка, ушедшего с хозяином в кабинет разговаривать. Перед его мысленным взором рисовалась картины, одна роскошней другой: вот он с новой женою сидит за столом у самовара и пьет чай с баранками; а вот он на масленице, в новой шубе и в добротных, гамбургского товара, ботинках с двойной подошвой и теплых суконных гамашах, стоит с женой у балагана и пьет горячий сбитень; а вот он сидит в теплом сортире скорого поезда Общества спальных вагонов, мчащего его через ночь в Париж, и курит сигару…
— Вы уж позвольте, я закурю, — Артемий Иванович вынул дешевый портсигар из карельской березы и сунул в рот папироску.
— Василиска, подай гостю пепельницу! — велела хозяйка.
— А что, любезная Агриппина Ивановна, много ли женихов у ваших дочерей? — спросил Артемий Иванович, твердо приняв решение навсегда остаться здесь.
— Жених-то нынче пошел все мелкий какой-то, непутевый. Я с дочками два года кряду на Духов день в Летний сад хаживала, так там нонче не из приличных купеческих семейств, а все больше какие-то подозрительные ходят, мазурики, вроде вашего начальства.
— Теперь видные женихи только у нас в царской охране остались. Может, мне и правда с вами породниться?
— Породнитесь, Артемий Иванович, породнитесь. А уж Петр-то Емельянович как рад будет! Выбирайте, какую хотите! Глаша, Василиса, радость-то какая! Ну, какая вам больше глянулась, какая больше по сердцу?