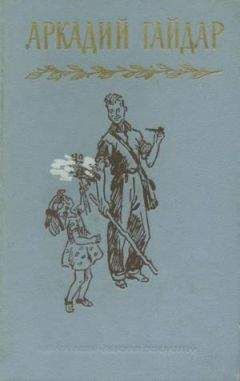— Сдавать отчеты. Облобызаешь любимого Ваха, обнимешь родного Сиюминуткина… Почему не выражаешь радости, почему не благодаришь заботливого начальника?
— Потому, что не могу ничего понять. Отчетные дни наступают через неделю. Прикажешь сидеть семь дней у Кругом марша или любезничать с Дедком?
— До чего же ты, прорабище, неблагодарен! Прежде всею до отчетных дней не неделя, а всего-навсего трое суток. Получил телефонограмму Анохина, в которой он сообщает эту потрясающую новость. Во-вторых, мне кажется, что у тебя, кроме Анохина и Дедка, есть, у кого провести время. Заскочи к Светке. Ты уже достаточно постился, чтобы не радоваться моему предложению…
— Со Светкой завязал. Прочным узлом, навсегда.
— Не раз уже слышал. Потому — не верю… Погоди, прорабище, мне пришла в голову занятная мыслишка
Я насторожился. На опыте двухлетнего общения с Дятлом уяснил: когда майору приходят в голову «занятные мысли», будь настороже — готовится с его стороны очередная непредсказуемая пакость.
— Зачем тебе ожидать завтрашнего утра? Отчёт почти готов, осталось подвести итоги и подписать — дело пятнадцати минут. Забирай своего любимого поющего водителя и жми ночью к Светке. Покантуйся у нее пару деньков, потом — в Лосинку. Как идея?
— Так себе, — вздохнул я. — Прямо скажем, не слишком радостная. Дополнительная причина — на сегодняшний вечер меня забили.
Кто сказал, что забили? Вдруг кладовщик снова промолчит? К Светке, естественно, меня калачом не заманишь, а вот Оленьку с удовольствием прокатил бы до Лосинки, устроил на постой к тамошним друзьям. Вечерами — на танцы в Дом офицеров, днями — в сопках, собирать цветы… Вот идея, не чета семыкинской!
— Дело твое, — сдался Дятел. — Тогда разрешаю захватить пару пирожков, стакан кофе и уматывать на свое рабочее место. Мне когда-то тоже нужно поработать. В кабинете с утра до вечера — будто рынок. Шляются, кому надо и кому не надо. Давай, Васильков, освобождай площадь.
Я подчинился. Но уходить без соответствующей сдачи не привык.
— Сейчас уйду. А тебе — счастливой, беспосадочной поездки с отчетом. Можешь заглянуть к Светке, разрешаю. Авось, возвратишься добрым и чутким начальником! Кстати, пирожков с капустой не перевариваю!
Семыкин от неожиданности подавился куском пирожка. Глаза выпучены, из них от напряжения — слезы.
Ничего, пусть помучается, это полезно, вдруг научится думать.
Миновав общую комнату, я вышел на крыльцо. Вдохнул полной грудью тёплый воздух. Пошли они ко всем чертям! Запреты, непонятные поручения — надоело! Вечером умотаю в подсобное хозяйство, умыкну Оленьку и умчу ее в сопки. Только меня и видели на строительстве проклятого секретного объекта.
И снова не получилось.
— Чтой-то ты, Димитрий, не заходишь на склад, — заворковал за спиной Никифор Васильевич. — Грозился зайти за шкурками — глаз не кажешь… С чего бы это, а?
Умеет кладовщик выскользнуть из сложного положения, извернуться и оказаться над собеседником. Сам же ссылался на разные причины, откладывал намеченную встречу.
Но я ощущал не только обиду, но и понятное удовлетворение. Правильно вычислил деда, протянул ниточку от ночного разговора двух «теней», в котором фигурировала операция ночью, до стариковского предложения навестить его.
Значит, кладовщик все же причастен к агентурной сети?.. А не ошибаюсь ли я, не тороплюсь ли делать скоропалительные заключения?
— Во сколько прикажете заглянуть в ваши хоромы?
— Прикажете, не прикажете… Научился словами бросаться, будто пацаны каменюками… Часов в восемь загляни — будет в самый аккурат. Шкурки получились — что надо.
Упоминание о необходимости обработки енотовых шкурок «святой жидкостью» я накрепко запомнил. Вечером заглянул в буфет, купил две бутылки водки. Хватит. А если и не хватит — у запасливого кладовщика найдется самогон. Однако, думаю — дело до промывания не дойдет…
Без четверти восемь подошел к дому. Калитка оказалась на запоре. Осмотрел ее, подсвечивая фонариком. Ни кнопки электрического звонка, ни цепочки, за которую нужно дернуть… Не вызывать же хозяев голосом?
Деликатно постучал по верхней планке. На участке залаяли собаки. Послышались стариковские шаги, и Никифор Васильевич приветливо открыл калитку.
— Заходи, Дмитрий, — заулыбался он. — Я уж подумал — позабыл ты по молодости о приглашении… Ох, ты, ну ты, ноги гнуты, — заохал он при виде бутылок. — Давненько не вкушал родненькую водочку. Помню, как-то мы с Родькой во хранцузском ресторане раздавили цельную четверть вина… Так то ж вино — ни вару в нем, ни навару — только в туалет сбегать и опорожниться… А нашу, рассейскую, хлебнешь — душа возрадуется…
Под аккомпанемент ностальгических воспоминаний говорливого хозяина я пересек двор, поднялся на крыльцо. В дверях встретила гостя дородная хозяйка, настолько дородная, что плотно закупорила вход в избу.
— Привечай мово начальника, Никодимовна, за стол сажай, жарехой угощай. Как хранцузские мамзели ублажали Родьку-пулеметчика…
— Готово, Васильич, все готово. Пока выпьете, закусите — жареха поспеет… Милости просим, гостенек, проходьте в хату…
Я послушно перешагнул порог. На широком деревенском столе, накрытом скатертью, — винегрет, холодец, квашеная капуста, соленые огурцы и помидоры. Полный гостевой набор. Торжественно водрузил посредине, между селедкой и огурцами, две бутылки «Пшеничной». Полюбовался. Красиво получается, ничего не скажешь. Еще бы пару бутылочек лимонада для завершения натюрморта…
— Садитесь, гостенек, — волновалась хозяйка, передвигая тарелки с закусками в другой, по ее мнению, более привлекательный порядок. — Присаживайся, Васильич…
Но хозяин не торопился разливать водку. Он то и дело поглядывал в темное окно, прислушиваясь к собачьему бреху. Чего и кого он ожидает?
— Не обижайся, Димитрий, потерпи малость, Пригласил я на ужин Валеру с Серегой — вот-вот заявятся… Больше за столом народу — ядреней веселье… Люблю, когда полон стол и полно за столом. Пока послушай еще одну побасенку… Любил мой Родька веселье, ох, и любил же…
Кладовщик принялся разматывать очередной клубок еще одной истории. Рассказывал азартно, размахивая руками, смеясь над глупыми положениями, в которых оказывался его герой. Хозяйка неодобрительно поглядывала на мужа, но помалкивала — не годится женщине критиковать «самого», ставить его в неловкое положение перед гостем.
Я не слушал Никифора Васильевича. До чего же некстати сегодняшняя встреча с Курковым и Сичковым. Завтра — ради Бога, можно и повидаться и потолковать, но только не этим вечером, когда уже запланировано сближение с кладовщиком. И запланировано не только мною, но и Малеевым.
Трещат о нашем высоком уровне образования — по радио, телевизору, в газетах, журналах, в многочисленных докладах и выступлениях. Будто упорно вдалбливают: мы самые лучшие, мы самые, самые…
Не знаю, как в области точных наук, а вот в сфере человекознания все мы — сплошные неучи. И я, и Арамян, и Родилов, и все инженеры УНР, неважно, какие должности они занимают и сколько лет оттрубили на стройках.
В институтах накачали нас самыми передовыми знаниями в области инженерных наук… Отлично! Но на стройки мы пришли телятами, приученными питаться одним молоком из материнского вымени. Поэтому в первые годы и тыкались, будто слепые щенята, набивали себе синяки и шишки.
Лично у меня первой наукой стало исчезновение двух вагонов пиломатериалов. Взяли умные воришки, и накололи наивного мальчишку в звании мастера, сами поживились и преподали молокососу урок на будущее.
Спасибо им огромное! Именно с этой покражи я и начал проходить курс человекознания. В нашу быстроменяющуюся эпоху она, эта наука, важнее всех остальных, без нее на стройке, к примеру, делать нечего — быстро окажешься за решеткой или, испугавшись, переквалифицируешься в рубщика мяса либо дворника…
В основе строительного человекознания лежат три кита: хитрость, отсутствие брезгливости и нахальство. Все остальные детали — второстепенны.
Только сейчас я начал понимать, что в тридцать лет остался всего-навсего старшим лейтенантом только по одной причине — не научился великой науке человекознания. Тот же Дятел, моего возраста — уже майор, успешно пойдут дела на особом участке — станет подполковником. А я так и буду носить на погоне три крохотных звездочки, с ними меня, как офицера без перспективы, отправят в запас… Старлей запаса — как звучит, а? Со смеху помереть можно…
Но все эти рассуждения о своей наивности и глупости я привожу только в общем плане, без привязки, как говорит Анохин, к определенному ориентиру. Зато усвоил твердо: без «трех китов» человекознания сексота не может быть. Он либо откажется от «почетного звания», либо так испортит порученное ему дело, что его с треском вышибут прочь. Без выходного пособия и почетной грамоты.