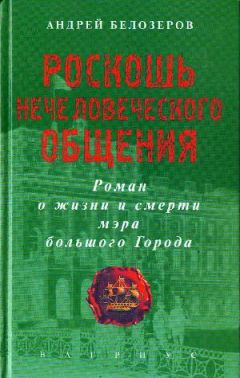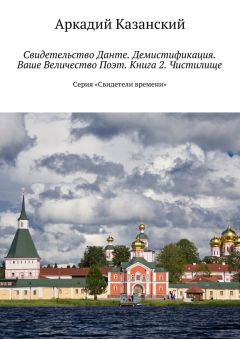— Помнишь, перед отъездом нам сообщили, что будут провокации со стороны националистов-радикалов?
— Ну. И что? Ты боишься?
— Я-то не боюсь. Паше нужно беречься.
— Паша не мальчик. Он все понимает лучше многих. Что значит — беречься? Охрана у него есть — и его, и мои ребята. А если события будут развиваться на уровне информационной провокации, он сам сообразит, как оппонировать и как сделать так, чтобы не ввязаться в склоку. Он в этом деле лучше нас с тобой разбирается. Уж поверь мне…
— Я верю, — сказал Журковский. — Только все равно волнуюсь. Мы его как будто бросили.
— Да перестань, профессор. Он не ребенок. Он настоящий, профессиональный политик. И тем мне близок. Конечно, не только своим профессионализмом, а прежде всего, своей задачей, своим пониманием истории и развития общества. Но и, конечно, профессионализмом. Как всякий хороший политик, он хороший дипломат. Так что не волнуйся насчет этих националистических уродцев. Главная угроза для нас идет совсем с другой стороны. А эти, вся эта сволочь нацистская, — лишь частный случай.
— Ты не считаешь их серьезной опасностью? — Журковский пожал плечами. Мне кажется, что это как раз одна из самых серьезных угроз и есть. И для нашего случая, для нашей кампании, и для страны вообще.
— Знаешь, какие законы в этой стране? Относительно вот этих самых националистических проявлений?
Суханов показал рукой на здания Сорок второй, словно поясняя, какую именно страну он имеет в виду.
— Знаю. Огромный штраф без разговоров. Или — тюрьма.
— Совершенно верно.
— Это правильно, — заметил Журковский. — Я с американцами в этом смысле абсолютно солидарен.
— Я тоже. Только не считаешь ли ты, что это можно перенести в Россию буквально?
— Полагаю, просто необходимо.
— Это невозможно, Толя. Невозможно сейчас. Пока Россия — слабая страна, которая, по сути, сильно преувеличивает свое место в мире, переоценивает свои возможности, переоценивает интерес к ней других стран. Кроме национализма у нее, в качестве развлечения, почти ничего и не остается. Так что, во-первых, такие законы у нас никогда не пройдут, а во-вторых, ты же знаешь, как народ у нас к законам относится.
— Так и относится, потому что они не выполняются. Потому что власть слаба.
— Нет, Анатолий Карлович, вовсе нет. Власть у нас сильна, как нигде. Она может творить вообще все, что захочет. А вот государство — хилое. Совсем хилое, Толя.
— Ты меня так в этом убеждаешь, будто я сам не понимаю. Все я знаю, Андрей Ильич. Любой более или менее здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет, что государство на ладан дышит. Работают только отдельные ветви власти и работают не на государство, собственно, а на себя.
— Да. Совершенно верно. И как это называется?
— Называется это — феодализм, — ответил Журковский. — Только в модернизированной версии. Феодализм двадцатого века.
— Двадцать первого, — поправил его Суханов. — Двадцать первого, Толя. Сейчас он еще в зачаточном состоянии. А вот после губернаторских выборов, да когда еще немного времени пройдет… Вот тогда и начнется… Начнется такое, что всем мало не покажется…
Новый год Журковские традиционно отмечали дома. Анатолий Карлович прилетел из Америки 30 декабря, но его помощь в приготовлении к празднику не понадобилась.
Материальное положение семьи благодаря новой работе Анатолия Карловича значительно улучшилось, и теперь от хождений по магазинам Галина, вместо прежних раздражения и озлобленности, получала новое, пока не притупляющееся удовольствие.
Основным источником этого удовольствия был для Галины Центральный рынок самый дорогой в городе, но и предоставляющий прекрасный выбор лучших продуктов.
Арбузы, дыни, киви, пять сортов апельсинов, восемь — яблок (Галина специально считала), про бананы уж и говорить нечего — они теперь в городе зимой и летом, виноград — с косточками и без, и мелкий, зеленый, и темно-фиолетовый «дамские пальчики», какие-то вовсе диковинные, экзотические фрукты — их Галина и Анатолий не то что не ели прежде, они и названия-то такие слышали впервые.
А мясо — парная говядина, нежнейшая телятина, как говорится, хоть сырой ешь, ярко-красные куски баранины, свинина — и окорока любых размеров, и котлетки на косточках. Ветчина, буженина, домашние колбасы, утомленно свернувшиеся толстыми питоньими кольцами… И все это — без очереди. Но цены цены…
Галина испытывала давно забытое чувство свободы — свободы покупать то, что хочется. Она ходила по рядам, уже привычно выбирая картошку (чтобы была кругленькая, не шишковатая, не в серой, каменной кожуре, а в мягкой, светло-коричневой, чтобы посвежее, да без глазков, да без налипшей глины), присматривая индейку (не очень большую, чтобы не засохли недоеденные остатки, но чтобы наесться всей семье), выискивая отменные фрукты, сочную зелень. Галина любила заглядывать к корейцам — они занимали на рынке целый ряд: маринованные овощи, грибочки, морковь по-корейски, салаты в пластмассовых контейнерах, невиданные прежде в России, острые, вкуснейшие — лучшая закуска к водке.
Два тяжелых мешка — в багажник такси.
Муж не хотел покупать машину, хотя денег уже хватало. И не «Жигули» какие-нибудь, вполне приличный можно было взять автомобиль. Ну не «Мерседес», конечно, однако на «Опель» или «Форд» семья Журковских теперь вполне могла бы потянуть.
«Права, ГАИ, ремонт, бензин… — говорил Анатолий Карлович. — Нет, это не для меня. Суета. Слишком много работы, чтобы еще и машину на себе тянуть».
Ну нет так нет, можно и на такси. Тоже небольшая проблема. Город, на самом деле, не такой уж и большой, да и ездить Галине Сергеевне особенно некуда и незачем. Разве что на рынок за продуктами. Или в гости к институтской подруге Светке, но это не чаще, чем раз в месяц… Ничего, можно и на такси.
«Надо же, какой молодец этот Суханов, оказывается, — думала Галина. — Я-то его всегда за трепло держала, а потом, когда разбогател, воображала этаким «новым русским»… Вика его — вообще ужас какой-то. Из грязи в князи. Тупая, как пробка. И дочурка в мамашу пошла, такая же безмозглая напыщенная дура. А Андрей Ильич — совсем, как выяснилось, не того уровня человек. Настоящий финансовый гений. Работяга. И не жадный. Друзьям дает заработать. Да что там друзьям — просто знакомым. Толя-то ведь ему не друг был, никогда они прежде близко не сходились. Толя им откровенно брезговал. А теперь — водой не разольешь. По Америкам вместе катаются, по Европам. Да и то — не с Викой же Суханову мотаться, с ней даже на улицу выйти стыдно… А с Толей у них общая работа, есть о чем поговорить…»
Одно смущало Галину Сергеевну. В той бочке меда, что как-то сама собой прикатилась в их дом осенью, одна ложка дегтя все же была.
«Толя, — говорила Галина мужу, — ты ведь сам всегда говорил, что политика — грязное дело. Всегда ругал их всех, и Греча в том числе».
«Я Греча не ругал, — отвечал Журковский. — Я говорил, что раньше мы с ним виделись чаще, а теперь ему не до нас. Не до меня, то есть. Так это истинная правда. Я и сейчас то же самое скажу. Но это не значит, что я на него ругаюсь или обижен. Вовсе не обижен. Он занятой человек, у него большие дела».
«Скажи, а у тебя нет ощущения, что Суханов взял тебя к себе только ради того, чтобы ты на Греча работал? Что ты им просто нужен? Что они тебя используют? Нет такого?»
«Нет. Суханов набирает к себе в команду опытных людей. Я профессионал. Я ему подхожу по своему уровню. А меня устраивают условия работы, которые он мне предложил. Вот и все».
«Все ли?.. А с Пашей ты в этом предвыборном штабе что, по зову сердца?»
«Можно и так сказать. Почему нет? И вообще…»
Муж всегда пытался замять эту тему. Его вечное «и вообще», после которого обязательно следовала многозначительная пауза, последнее время весьма сердило Галину. Но, с другой стороны, думала она, жаловаться грех. В семье появились деньги, жизнь налаживается, а то, что он в своем предвыборном штабе штаны просиживает, — его дело. Должна же у мужчины быть какая-то игрушка.
Впрочем, новая жизнь не позволяла Галине Сергеевне долго размышлять о неприятных для нее сторонах деятельности Анатолия Карловича. Да и не были они, в общем, неприятными, просто тревожно было временами, и тревога эта исходила от неизвестности. Раньше что? Институт, лекции, зачеты, экзамены, ну слетает куда-нибудь на симпозиум, в командировку, и опять — утро, завтрак, Институт, вечер, сон. А теперь — в Институт ходит два раза в неделю, ночами сидит дома за компьютером, а целыми днями торчит в штабе Павла Романовича Греча, готовящегося к выборам на пост губернатора.
«Ну и господь с ним, — думала Галина Сергеевна, успокаивая себя. — Ничего страшного, кажется, не происходит. Подумаешь, посидит с бумажками, посочиняет листовки… Что там еще делать, в этом штабе? Используют его, конечно. У них свой интерес — они, если Греча переизберут в губернаторы, свой куш получат, а Толя как был наемным работником, пешкой, в сущности, так этой пешкой и останется… А что делать? В таком возрасте перевоспитывать человека бесполезно. Характер давно сложился, точнее, отсутствие характера. Полное отсутствие. Другой поставил бы им такие условия, чтобы и себя, и детей, пусть не внуков, пусть хоть детей — обеспечить по гроб жизни. А Толя? Ну хорошо, получает он сейчас деньги. Но это ведь зарплата. Это не капитал, который может прикрыть в случае, не дай Бог, болезни или еще чего… Стоит ему перестать работать — деньги кончатся мгновенно. И снова нищета…»