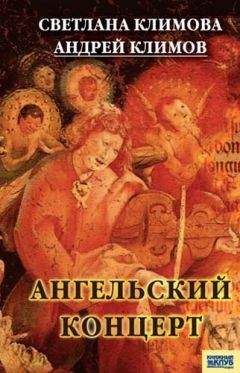Вокруг нашего дома тоже не все в порядке. Я ничего не говорю Матвею. У него новая идея — привести в жилой вид первый этаж, а мастерскую перенести наверх, там просторнее. И камин в гостиной, как он считает, тоже пришелся бы кстати. Я же хочу съездить с детьми в Крым, к морю, куда уже несколько лет никак не доберусь. Деньги у нас есть. Мы посоветовались и решили: как только мне дадут отпуск, Матвей отправит нас в Новый Свет, а сам начнет перестройку. Маша Чурилова едет со мной — у нее в Крыму родня.
Вчера не спала полночи. Нужно взять себя в руки. Готовиться к поездке и выбросить из головы всю эту чепуху. Но «нечто» меня не отпускает. Оно ходит за мной по пятам. Поджидает на автобусной остановке. Скрипит половицами в темной кухне и заглядывает в окна. Я чувствую его дыхание на затылке… Может, всему виной пятьдесят седьмой? Этот леденящий ужас я помню так, словно насквозь им пропиталась, хотя и прошло двенадцать лет… Как это было? Вот так, как сейчас? Сначала следили, потом подстерегли в темноте, когда отец возвращался к Володе на Новослободскую, один заступил дорогу и торопливо заговорил, и тут подоспели еще двое — достаточно, чтобы заставить пожилого человека без сопротивления спуститься в замусоренный подвал…
Нина, успокойся! Это всего лишь усталость и взвинченные нервы. И завещаний составлять больше не стоит, даже если это кажется необходимым. У меня Матвей и дети…
28 июля 1975 года
Как давно я не писала…
Три дня назад мы отпраздновали сорокалетие Матвея. Были гости: Маша Чурилова, однокурсники Матвея с женами и детьми, Костя Галчинский, антиквар Левенталь, коллекционер Зубанов, имевший виды на Матвея, и неожиданно нагрянувший из Москвы Володя Коштенко. Дети подарили Матвею щенка овчарки — моя идея. Пес ему страшно понравился, и Матвей даже немного повеселел. Настроение у него в последние дни паршивое. Мы так мучительно пробивали через инстанции его первую персональную выставку, столько сил положили на это, что, когда в местной прессе ее буквально растоптали, — Матвей сразу пал духом.
Я удивлена. А чего, собственно, он ожидал? Что его северные пейзажи и портреты монашествующей братии вызовут единодушный восторг? Что одобрят его «Псалом-63» — потрясающую, на мой взгляд, композицию? Или он забыл, где живет?
Народу на открытии было немного, но отзывы симпатичные. Нам звонили, что готовы приобрести работы Матвея хоть сейчас, но он ни в какую не хочет с ними расставаться. Он весь в этом — постоянно совершает взаимоисключающие поступки. Сначала, сломав себя через колено, вступает в Союз художников, затем, разругавшись в пух и прах с новым секретарем, неким Суффальдиновым, подает заявление о выходе из Союза. И так во всем.
Я сказала Матвею: мы с тобой частные лица. Никому до нас дела нет. Тот же Галчинский, при всем своем отвращении к коммунистической доктрине, вступил в партию — иначе не видать бы ему кафедры философии как своих ушей. И теперь другие читают истмат и диамат, а Костя попивает чаек в кабинете и выбирает для себя темы семинаров попристойнее. Этот проклятый Союз нужен тебе только ради пенсии. Пока что мы живем без больших материальных затруднений, но кто знает, что случится завтра? Читай, пиши картины, расти детей; чего тебе, Матвей, еще? Что ты мечешься, не спишь ночами, ссоришься со всеми, а потом хватаешься за сердце? Откуда у славян этот вечный зуд — всех учить, исправлять чужие ошибки, доказывать, что только им известно, как осчастливить человечество? На что ты тратишь свою жизнь? Чего тебе недостает?
Он смущенно потер висок и ответил: наверно, ты права, Нина.
Мне очень жаль его — талантливого и доброго. И я люблю его таким, какой он есть.
Возвращаюсь к дню рождения. Матвей не хотел гостей — к чему все это? — но я-то понимала, что его во что бы то ни стало нужно отвлечь от мрачных мыслей, пусть даже самым тривиальным образом. Спасибо Маше — без нее я вряд ли справилась бы и с угощением, и с уборкой, и с непривычным для нас ритуалом семейного торжества.
Она так и не вышла замуж, словно принесла обет вечной верности школе. Поразительный характер! Лет семь назад у нее кто-то был, да сплыл — Маша выставила ухажера и больше ни с кем не встречалась. Мне она заявила: видеть не могу мужиков; вот выйду на покой, продам квартиру и махну к двоюродному брату в Крым. Буду жить у моря и воспитывать его внуков. Но до пенсии Маше еще десять лет. Она лихо водит ржавые «Жигули», ухаживает за парализованной старшей сестрой, дает уроки английского всем без разбору, надеется стать директором школы и завести там новые порядки, а по вечерам посещает Воскресенскую церковь, где у нее много знакомых среди прихожан; и всем она успевает помогать. Мне бы не осилить и половины.
Кстати, о машине. Никак не уговорю Матвея купить автомобиль, пусть и подержанный. Хотя зачем он нам? С годами я становлюсь настоящей кухенфрау и домоседкой. Я так люблю наш дом — его запахи, шорохи, закоулки; люблю медленно текущее в нем время, шаги Матвея в мастерской над головой, стук дождя по кровле над террасой, голоса детей… И цветы на подоконниках, камин, пусть и не настоящий, свою посуду… Я совершенно равнодушна к жизни, которая вяло течет за окнами…
Володя Коштенко ворвался к нам двадцать пятого августа, в полдень, в самый разгар нашей с Марией стряпни. Возбужденный и, как всегда, навеселе. Мы бросили все и сели пить кофе. Он привез кучу подарков и, блестя раскосыми глазами, похожими на мокрый чернослив, торжественно возвестил, что его жена беременна. Вера, сказал он, с такой же фанатической одержимостью ждет появления на свет младенца, как когда-то отрицала всякую необходимость деторождения. Бросила курить, разогнала приятелей, шьет подгузники и блюдет диету. В доме тот же бедлам — голову приклонить негде. Он проиллюстрировал несколько книг, вышедших в Москве одна за другой, и выставился в Болгарии и на Кубе. «Старик, — Володя с размаху хлопнул Матвея между лопатками, — плюнь и забудь! Не в выставках суть…»
Он приехал вчера и остановился у родителей. Наливки из погребов Коштенко-старшего пошли в ход еще с вечера. «Она Богом клянется, что это мой ребенок, но какая тут может быть уверенность? Понятия не имею, как оно вышло, но неважно, все это мелочи жизни, а я так просто счастлив. Она помирилась с родней, и ее папаша-врач — знаменитость, между прочим, работает в Кремлевке, — не спускает с нее глаз. Еще бы: единственная дочь, продолжательница славного рода Мякишиных…»
Вера не сходила у него с языка и тогда, когда собрались гости. Я попросила Машу опекать Володю; она усадила его рядом, подкладывала ему закуски и бдительно следила, чтобы его рюмка не наполнялась чаще, чем у остальных. Пару раз Володя сбегал в мастерскую — позвонить жене, но в конце концов Маше пришлось увести его вздремнуть наверху.
Матвей весь вечер был рассеян и почти не прикасался к еде.
Я сидела напротив, глядя на него. Мы прожили вместе почти двадцать лет, но для меня он ни на день не постарел. Даже стал красивее — похудел, подтянулся, движения рук и поворот головы стали значительными; лицо окончательно утратило расплывчатую мягкость. По-настоящему меняться он начал после тридцати: появились мелкие морщинки у губ и глаз, особенно у левого, который Матвей постоянно щурит, глядя в объектив бинокуляра во время работы. Но это его нисколько не портит; Маша как-то сказала: «Ты заметила — на твоего мужа оглядываются женщины»… В последнее время он зачем-то отпустил волосы. Это ему не к лицу, но я догадалась, в чем дело: макушка у него начала просвечивать розовым, и это его смущает… Что до бороды, то она у нас не прижилась — растет седыми с ржавчиной пятнами…
Это вовне, но никто и представить не может, насколько изменила Матвея за эти годы напряженная духовная работа. Его воспринимают буквально: молчаливый, слегка настороженный человек, одержимый делом, спокойный и сдержанно приветливый со всеми. Только я знаю, что за этой «обыкновенностью» прячется ранимое сердце, редкий дар и страстная любовь к жизни. Он многое берет чутьем, но еще большему научился за последние годы. Его ни о чем не нужно просить дважды, не требуется его разрешение и тогда, когда мы с детьми что-нибудь затеваем. Абсолютное доверие — поэтому мы никогда не лгали ему, не было нужды. Он как никто умел понимать природу любых ошибок и иллюзий. И нам всегда было хорошо вместе.
Вот почему я так удивилась обиде Матвея и его вспышке, из-за которой закрутилась вся эта история с выставкой. За день до открытия экспозиции мы с Галчинским заглянули к Матвею. Картины уже были развешаны, и он вместе с электриками налаживал освещение. Неожиданно прибыли какие-то бонзы из отдела культуры, по залу начала важно прохаживаться, щурясь на холсты, дама с рыжим шиньоном и ртом, похожим на прорезь в свинье-копилке. Наконец она остановилась, поманила к себе Матвея, сгибая и разгибая указательный палец, а затем холодно спросила, тыча тем же пальцем в картину: «Эт-та что еще у вас тут за “Псалом”?» Матвей вспыхнул, сорвал с себя рабочий халат, швырнул его на пол и вышел, хлопнув дверью. Костя, печально улыбаясь, наклонился ко мне и пробормотал: «Мир поймал-таки нашего гордеца»…