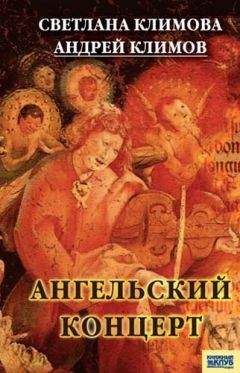Вчера был праздник. Мы собрались у елки в гостиной и отключили телефон. Было много подарков, смеха, лаял и носился по комнатам пес, получивший новогоднюю косточку, пили шампанское. Анюта умаялась и отправилась спать раньше всех, а Паша упирался и не хотел уходить до двух. Наконец и он спекся, и мы с Матвеем остались одни.
Я начала было убирать со стола, но Матвей сказал: «Брось все, иди ко мне…» Я подошла, и он с неожиданной силой обнял меня. «Что еще нужно человеку? — проговорил Матвей. — Дом, семья, работа… Мне почему-то тревожно, Нина. Кто все время так пристально смотрит на нас?» «Бог, — ответила я. — Кому мы еще нужны? Дети вырастут и уйдут каждый своей дорогой, у друзей собственная жизнь, родители наши на небесах… нас только двое, ты и я, — с этим мы и умрем…»
Первое января 1991 года. Поздний вечер
Мы пока еще живы.
Этот комментарий относится к последней моей записи пятнадцатилетней давности. С тех пор я забросила дневник, а сегодня я гораздо спокойнее. Будто отложила весла, и течение тихо несет меня по бесконечной реке. Хотя я-то знаю, что не так уж она и бесконечна и обязательно где-то придется причалить к берегу… В семьдесят шестом мне было сорок три, и я даже не догадывалась о том, какой глубокий и затяжной кризис меня поджидает; в то время я совершенно забыла о своем блокноте. О том, что со мной происходило, сказать нечего — я с этим справилась.
Глупо писать о счастливой повседневности. О детях, о работе, о нашей с Матвеем глубокой близости, о доме и более-менее безбедном существовании. Череда прожитых дней — из тех, что зовутся легкими, хотя многие из них пережить труднее, чем целую длинную жизнь…
В семьдесят шестом все изменилось мгновенно. По принципу домино. Матвей простудился и трудно проболел почти три месяца. Ему пришлось ограничить курение, однако он еще долго кашлял, сильно исхудал, а от лекарств у него начались проблемы с желудком. Матвей выкарабкался, но мой страх за него лишил меня воли к жизни. Я слишком хорошо помнила последнюю болезнь мамы. А тут и моя очередь подошла. Я запаниковала, не понимая, что со мной происходит. Мир потерял связность, распался на отдельные фрагменты, я мучилась бессонницей и в конце концов оказалась на пороге глубокой депрессии. В один из вечеров, отыскав в блокнотах отца несколько телефонов прихожан лютеранской церкви, я позвонила. Мне сообщили адрес, назвали время, и я поехала туда, ничего не сказав Матвею.
Это был обычный большой дом в районе частной застройки — вроде нашего, но на другом конце города. Кое-что уже менялось, но прихожане по-прежнему собирались скрытно, по одиночке ныряя в калитку и быстро пересекая двор. О службе писать не буду — по сей день я так и не стала членом общины, хотя и побывала там еще несколько раз. Мне нужно было с кем-нибудь поделиться новыми ощущениями, и я рассказала о своем возвращении в лоно церкви старой подруге — Маше Чуриловой. То, что произошло затем, было ужасно: я ожидала понимания, поддержки, но Маша, православная до мозга костей, вдруг вспыхнула и наговорила гадостей; в итоге мы разругались, а гордыня не позволила мне сделать шаг к примирению первой. Теперь-то я понимаю, что с нею случилось то же, что и со мной, — мы обе перешагнули порог критического возраста.
С Машей мы больше не виделись — вскоре она вышла на пенсию и уехала в Крым, как давно собиралась.
Меня познакомили с пастором — образованным человеком средних лет, потомком немцев из Поволжья. На языке предков он изъяснялся с акцентом и показался мне несколько вяловатым, но знающим свое дело. К служению он приступил после смерти моего отца, и имя Дитмара Везеля ему ничего не говорило — в отличие от нескольких пожилых экзальтированных дам, окруживших меня назойливым вниманием. В то свое первое посещение мне очень хотелось поговорить с духовным лицом, однако у пастора после службы оказались срочные дела, и он, уже на ходу, велел мне регулярно посещать какие-то библейские вечера…
Был там и тот господин, которого я впервые увидела на похоронах отца, — Петр Интролигатор. Он не сводил с меня глаз, и я, сама того не желая, кивнула ему. Однако в первое мое посещение общины он не сделал ни малейшей попытки приблизиться — держался отчужденно и холодно, и только покидая дом пастора, неожиданно оглянулся, словно приглашая последовать за собой. Одет он был аккуратно, но ткань на обшлагах тщательно вычищенного и отутюженного темного костюма вытерлась до основы — мне даже показалось, что это тот же костюм, в котором Интролигатор был на похоронах. В руке он держал темные очки в немодной оправе. И все же в тот вечер, когда я приняла решение больше не приходить к лютеранам, мы вместе отправились к остановке трамвая, которая находилась в двух кварталах.
Уже смеркалось, но очки он все-таки надел. Очень рослый, на голову выше меня, он неторопливо шел рядом, и временами казалось, что его голос доносится откуда-то издалека. Говорили мы на немецком. Интролигатор расспрашивал о Матвее и детях — из этих расспросов я поняла, что он неплохо информирован о нашей жизни. Я удивилась — откуда? Тогда он сказал, что еще много лет назад, перед отъездом в Москву, мой отец просил его позаботиться обо мне. Я сразу занервничала и с вызовом заметила, что просьба отца кажется мне довольно странной — ведь он не мог знать, что с ним произойдет. «Не нужно так волноваться, фрау Нина, — сказал он. — Мы были друзьями. Дитмар мне доверял». «И что же, все эти годы вы, так сказать, приглядывали за мной со стороны?» «Я не должен был привлекать к себе внимание, — последовал ответ. — Ведь у вас все складывалось неплохо?» «Верно, — согласилась я. — Расскажите мне, герр Питер, об отце…» «Дитмар Везель, — помолчав, медленно произнес он, — любил жену и дочь. Мы познакомились в церкви и скоро обнаружили, что у нас много общего. Мы оба потеряли близких — моя жена погибла, и я жил, как в пустыне. Но у Дитмара были вы, а мне Бог не успел послать ребенка… Хотя сейчас это уже не имеет значения, — Интролигатор странно усмехнулся углом рта, — важно другое. Однажды Дитмар явился ко мне с семейной Библией — замечательное издание, большая редкость в наши дни. Она была сильно повреждена, и он оставил книгу у меня. Вы должны знать, что моя профессия — переплетчик. Даже фамилией я обязан этому ремеслу, так как мои предки, кроме отца, на протяжении пяти поколений занимались тем же. Мне пришлось основательно повозиться, восстанавливая страницу за страницей, пока Библия не приобрела тот вид, какой имеет сейчас… Она ведь по-прежнему лежит на столике в вашей спальне? — Я кивнула. — Сожгите все! Уничтожьте записи Дитмара и его переписку. Я настоятельно вас прошу!..» «Но почему? Почему я должна это делать?» «Потому что он этого хотел… и ради всего святого, держитесь подальше от нашей общины…»
Его волнение меня поразило, однако из чувства противоречия и какой-то смутной тоски я воскликнула: «Но вы-то посещаете службы, почему в этом должно быть отказано мне?» «Ваш трамвай, фрау Нина, — сказал Интролигатор. — Все просто: я верю, вы — нет… Обещайте мне исполнить волю вашего несчастного отца…»
Больше я этого человека не видела.
Конечно же, я не выполнила обещания — не уничтожила книгу. И не продала ее, сколько меня ни упрашивали. Она по-прежнему лежит в спальне, и иногда я читаю Матвею вслух тот или иной отрывок. Тот же его любимый шестьдесят третий псалом. По-немецки он звучит как эхо в ущелье. Вглядываясь в каждое слово, я перечитала записные книжки отца, изучила всю его переписку, а затем ясным осенним днем сожгла эти бумаги в саду вместе с опавшими листьями. То, что я там вычитала, снова выбило меня из колеи и напугало, но теперь все превратилось в дым и пепел.
…Ближе к вечеру Матвей ушел провожать Галчинского, встречавшего у нас Новый год, да, видно, где-то застрял. Детей в доме тоже нет. Павел празднует с приятелями, Аня со своим молодым человеком отправилась в гости. Оба вернутся только второго. Минувший год был битком набит круглыми датами: Матвею исполнилось пятьдесят пять, сыну — тридцать, а дочери — двадцать пять…
Костя свалился нам на голову неожиданно. Он разительно переменился — встречая в институте, теперь я не всегда его узнаю. Эпоха галстуков и строгих костюмов ушла на дно. Тощий зад Константина Романовича обтянут драными джинсами, привезенными из Берна, свитер болтается как на вешалке, волосы он отпустил до плеч и, кажется, начал красить, на впалых щеках неопрятная поросль с проседью, глаза горят священным безумием. Он носится по коридорам в окружении возбужденных студентов, сменил уже три машины, однако сам терпеть не может водить, поэтому за рулем у него всегда кто-нибудь из поклонников или поклонниц.
Несмотря на весь этот фейерверк, Константин Романович по-прежнему живет бобылем. И хотя в его доме нет-нет да и задержится какая-нибудь молоденькая женщина, я сильно подозреваю, что он ухитрился до сих пор сохранить целомудрие. Светлана Борисовна не в счет — это особая история. Связи его в городе обширны, знакомых бездна, здоровье — отменное. Утверждает, что по утрам обливается холодной водой, но я не верю, зная его характер. Галчинский — из тех, кто нюхом чует ситуации, пагубно влияющие на нервную систему. Бережет себя — потому и здоров. И дай ему Бог! Он крайне осторожен, держится, как всегда, подальше от властей, а на профессорский коньяк, кроме нашего института, зарабатывает еще в двух. В политехническом у него часы по психологии, в юридическом читает этику и религиоведение. И вовсе не по причине нужды — Костя человек достаточно обеспеченный по нашим меркам. С возрастом его хобби — собирание редких книг, марок и старых гравюр — обернулось внушительной цифрой сбережений. Иногда Костя впадает в меланхолию. Тогда он начинает жаловаться, что одинок как перст, и грозится, что после смерти коллекцию свою завещает городу… Единственное, чего у Галчинского не отнять, — он жадно любопытен к людям и умеет с ними ладить. Он готов часами слушать любого болтуна и при этом не тратит ни капли собственной энергии; но что уж совсем странно — по-настоящему глубоких людей Константин Романович в упор не замечает. Это — свойство философов и священников…