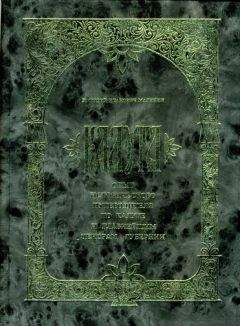- У кого нет внутренних убеждений, ценностей, тому и защищать нечего. Он всегда уползет, чтобы сохранить жизнь. После гибели героев надолго остаются выживалы и изменники...
Эх, если бы она не добавила этого слова "любви" - её речь имела бы единственный подтекст. А так многие посчитали, что её слова рождены какой-то любовной драмой.
Общество вновь всколыхнулось, заговорило о выживалах и героях и разделилось на пессимистов и оптимистов. Я попытался встать на сторону последних. Одна Леночка да ещё Бенедиктыч не принимали участие в споре. Леночке без разрешения открывать рот запретил Копилин, и она с трудом, но все-таки сдерживалась, а Бенедиктыч отправился за чаем, и я позавидовал его одиночеству на кухне. Зинаида не любила, когда я уходил, считала это негостеприимным.
А гостям было не до меня. Раджик что-то доказывал организму, Копилин их обоих успокаивал. Философ грубой дырки некстати пытался объяснить свою идею о том, что людям пора бы разрешить все и отменить механизмы подавления, хоть бы для эксперимента. Я заметил, что Зинаида его как-то творчески возбуждала. "Я за! - подхватил идею философа человек-ман, - я тоже думаю, что мы созрели до состояния, когда каждый может дать отчет в своих действиях и знать меру в еде, питье и удовольствиях. Нужно только убрать явных деградантов!" Но человек-ман был слишком молод, чтобы философ мог удовлетвориться его восторгом.
Общение продолжалось. Я вновь ушел в себя и думал, что сегодня ещё не так тесно, потому что не пришли говорящая трибуна, человек-пуп, джентельмен-ноготь, милый больной, общий любимец и их друзья. Моя голова лопнула бы от перелива проблем и идей, в которых я и так копошился, как муха в путине. Для достоверности я могу прибавить человека всегда говорящего только "хмы", который целыми вечерами пил крепкий чай в углу за этажеркой, но вряд ли стоит пускаться в утомительный объективизм и вставлять в диалоги его многозначительные хмыканья...
Я вышел из отрешенного состояния, когда услышал гитару Копилина. Его попросила сама Зинаида. Он играл и пел в тот вечер бесконечно, и я заметил, что с каждым звуком его гитары в моей голове делается просторнее и свободнее.
Я утопал в звуках, смотрел на гостей и гадал: почему одни бегут, по уши в деятельности, а другие сидят, курят, смотрят, и что же лично я представляю между ними? Я находил, что мог бы быть каждым из присутствующих и улавливал, что моя личность то множится в беспредельность, то усыхает до рамок банальнейшего типажа. Я физически осознал, что прожил тысячи жизней и чем дальше, тем труднее возвращаться к своему первородному "я". Чего оно хочет, это бесполое "я"? Что оно знает? Что мне мешает услышать его, понять себя? Или препятствует накопленный веками страх, когда весь разум поглощен борьбой с ним, когда он только и занят тем, что созданием красивых идей или выплесками чудовищных фантазий мученически противостоят грядущим ужасам и опасностям, которые кружат вокруг тысячами случайностей, произрастая из уродств, ошибок и дремучести? Быть может, подобные сложные стилистические конструкции запутывают все? Или выйти к себе не позволяет иной страх страх непомерных усилий, каких-то разрушительных жертвоприношений, утраты любви к привычным формам, надрыва и поражения в пути?..
Нет-нет, разгонял я монотонные вопросы, и сталкивался с пытливым взором Зинаиды, собирал остатки воли, смотрел на Леночку и говорил себе, что больше мне ничего не нужно, с меня довольно и этой крошечной вселенной.
А струны Копилина звучали возвышеннее, чем голоса.
И если бы не излишняя сентиментальность голодной девушки, вечер мог бы закончиться так ровно и плавно, как угомонившееся море. Но кода Копилин доиграл, она очень чувственно и излишне искренне сказала:
- Как это здорово, если бы мы могли жить вот так единой дружной семьей!
И всем от избытка чувственности стало неловко и грустно.
Один тайный чемпион придвинулся к ней поближе.
Глаза у гостей увлажнились, они поспешно вставали с мест. Но никто не шел к выходу. Все смотрели на Зинаиду, зная, что она должна закрыть вечер, резюмировать наговоренное. И она сказала:
- Правда у каждого своя, но есть истина, которая не есть правда, а настоящий талант всегда вызывает жестокую зависть.
Из этого все поняли, что и на неё сильно подействовала музыка Копилина, и поэтому один прекрасный тезис наложился на другой и долгожданного парадоксального эффекта не вышло.
Помню, я встал, довольный, что сегодня Зинаида меня не потрошила, когда случилось нечто полуфантастическое - вдруг, совершенно ошеломляюще, философ грубой дырки вышел на середину и не упал, а буквально бухнулся на колени и дико заголосил. Именно заголосил.
И это было ужасно! Он смотрел на Копилина мучительным пылающим взглядом, и сверху его здоровенный голый череп казался желтым диском, мистической шаровой молнией, влетевшей в раскрытое окно.
Он причитал, как на кладбище:
- Каюсь! Во всех гадких грехах каюсь! Все пробовал, идиот! За думки тщеславные, за возню постельную, за обманутых этим черепом, - бил он себя кулаком по голове, и на глазах она наливалась кровью, - прости, Зинаида! умолял он со слезами на глазах, - Простите все. Отпустите грехи! Не могу носить их! Переполнен! Бил зверей по голове, бил! Жену ненавидел и смерти ей желал! Все мне мешали! Род человеческий презирал! Гордыня изъела! Требовал от других чистоты, которой сам не имел! Нечист был, как и само времечко! Слаб, подл и жаден! Унижать любил, на каждом шагу трусил! Мерзостен!..
О, как долго он кричал, чем дольше, тем унизительней. Во мне все дрожало, сотни зеркал ломались, стекло резало и кололо, и сквозь трещины и выбоины проглядывали новые зеркала, уже изуродованные узорами трещин, отражающие мои искривленные "я"; и я бы выскочил вон, если бы не этот проклятый обездвиживший всех шок.
И не стал бы я вообще упоминать об этом происшествии, если бы чуть позже, когда философа привели в чувство и увели домой сострадательные женщины, Кузьма Бенедиктович не напомнил мне один выкрик:
- Что же делать, - признавался философ, мне так часто приходилось разочаровываться в человеке, в друзьях. Я гадок и жалок тем, что во мне болезнь разочарования, я никого не подпускаю всерьез, прячу тоску в глазах, я не верю, что меня не предадут и не бросят. Какой это груз, какое уныние, какой грех жить вот так!
- Это очень интересное признание, Валерий Дмитриевич, - сказал Кузьма Бенедиктович, когда привел эти слова философа.
А если честно, сам я этих слов не слышал, а не выдумал ли их Бенедиктыч - не уверен. Я был очень раздражен этой невыдержанностью, меня возмутило, что он заставил всех нас после чистого чувства испытать мерзость, а лично меня вновь отшвырнуло в монотонные волны вопросов о своем "я". Лишь одна Зинаида искренне восхитилась его поступком, ну и естественно, все очень громко и фальшиво простили ему грехи.
Раджик и я провожали Копилина с Бенедиктычем. Был поздний вечер, и в душе у меня ползали змеи. Мне казались более чем неуместными пространные рассуждения виновника этого происшествия - Копилина, гармонией звуков или ещё там чем вызвавшего такую вопиющую реакцию у моего коллеги. Я шел рядом с тенью Раджика и слышал, как Алексей объяснял Леночке совершенно спокойно и не к месту:
- Есть такой тип обывателя. Он чтит приметы, обожает таинства, задыхается от восторга при столкновении с чудесами, интересуется интимными трагедиями, ужасается ими, все как положено, дрожит при упоминании о бессмертии, хочет и боится жить страстно. И вот он потребляет культуру, потребляет чужие эмоции, лирику, энергию, возбуждается, и все на пустом месте, помигает и вовремя спать ляжет, чтобы все забыть назавтра, всю эту культуру отвергнет, возбудится каким-нибудь новым зрелищем. Когда это женщина и с ней переживешь что-нибудь нечеловечески выстраданное, то спать ложишься, как на каторгу.
На этом самом месте Леночка ни слова не говоря ушла вперед. И мне тоже было непонятно, кого он имел ввиду. Может быть, у него уже были подобные реакции на музыку, и выходка философа не подействовала на него, раз он мог так легко рассуждать; да и что все мы знаем о Копилине, кроме того, что он перекати-поле и страдал страхами перед магазинами?
Всем было неловко, не знаю, как другим, а мне после этих вечеров не было на планете места. Долго шли молча, и я подумал, что такие же слова говорил москвичке. Я даже остановился от такого нелепого предположения, и захотелось развернуться и покинуть этот ниспосланный судьбой коллектив, возомнивший о себе невесть что, а на самом деле представляющий на арене жизни ничтожную малость. Все эти гипертрофированные эмоции, и кто я сам со своим недоумием? И я бы отправился бродить по замерзшей Оке, чтобы найти черную полынью и долго смотреть на притягательную текучесть, если бы Бенедиктыч не подарил мне отсрочку:
- На сегодняшний день я знаю, чего хочу, - сказал он Копилину, - я знаю, что это нехорошо, но зато честно: ходить из города в город, и чтобы никого не было, чтобы люди исчезали, чтобы войти, куда хочешь, взять, что хочешь, посмотреть, куда хочешь, чтобы побывать так в огромной пустоте, дабы душа отдохнула и насытилась. У тебя бывало так, Алеша?