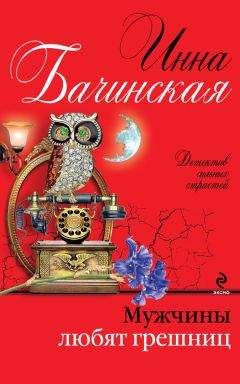Тарасовна шевелила усами, поджимала губы, хмурила брови, проникнутая серьезностью момента. Я, устав рассматривать ее лицо, бродил взглядом по комнате – по бесчисленным коврам, тусклым стеклам серванта, плюшевым зверушкам вперемешку с подушками на громадном диване.
– Вот этот! – торжественно сказала Тарасовна, и я вздрогнул. Она протягивала мне фотографию. – Он самый! Я запомнила. Как сейчас вижу – она вошла, а он из-за угла и – шасть за ней! И оглядывается. Я еще подумала – не наш, чужой. Никогда раньше его не видела, а ведь мы там жили, почитай, десять лет. Хотела сказать, да потом думаю, вам не до меня. Горе-то какое! Такая славная она была, молоденькая, всегда слово найдет приветное, спросит, как здоровье. У меня артрит, так она, поверишь, растирку принесла. И вроде помогло, хоть и ненадолго. Такая хворь безбожная, ничего не берет. Он! Я его запомнила, точно он. Если бы не Анюта, я бы видела, когда он вышел, а Анюта пришла, тары-бары-растабары, потом чай сели пить. Кабы знать! – Она покачала головой и спросила деловито: – Лида сказала, ты письмо от нее получил? – Она перекрестилась. – Видать, и там нет ей покоя. Бедная!
…От чая я отказался. Шел пешком из пригорода под дождем. Погода испортилась окончательно. Мне нужно было подумать. Я двигался как автомат. Сияли размыто фонари и автомобильные фары, несколько раз меня обдало холодной водой из-под колес. Я даже не остановился, только утерся рукавом. Мне уже казалось, что я с самого начала знал, кто зашел в подъезд следом за Лиской. Больше некому. Если бы я дал себе труд подумать раньше, догадался бы.
Казимира дома не было. Лена обеспокоенно спросила, что случилось. Ее насторожил мой тон.
– Тема… – произнесла она неуверенно. – Темочка, не надо!
Она решила, что я пришел выяснять отношения и вытаскивать на свет нашу историю. Я действительно пришел объясниться, но к ней это не имело ни малейшего отношения. Я не стал отвечать.
Я стоял под деревом, которое не спасало от дождя. Холод пробирал до костей. Удерживая дрожь в руках, я сжал кулаки и сунул их глубоко в карманы. Часы на площади пробили десять, потом одиннадцать. Я стоял, как часовой на посту. Я решил узнать все. Мне казалось, я не удивился. Подсознательно я всегда это знал. Брат всегда тянулся к моим игрушкам, и если их не получал, то попросту ломал.
«Ему нужно, чтобы у тебя ничего не было», – сказала Лена, поняв расклад своими птичьими мозгами.
А потом мы пили водку, и он плакал и называл себя ничтожеством. Раскаивался? Я не знал, в чем его обвиняю – я не верил, что он мог убить… Не хотел верить! Не мог! Не смел! Но что-то он знал наверняка. Он скрыл, что был там в тот день. Он суетился вокруг меня и навязывался в друзья, он вел себя как человек, который виноват. Мы пили водку, и мне было невдомек, что мы оба оплакиваем ее!
Казимир приехал около полуночи. Я шагнул ему навстречу, он отшатнулся, всмотрелся, произнес испуганно:
– Темка, ты? Ты был у нас? Что случилось?
Он был пьян и едва держался на ногах. Я схватил его за грудки.
– Ты, подонок!
– Что, Тема, что? – забормотал он, прикрывая лицо руками. Он обезоружил меня своим жестом. Я оттолкнул его. – Что случилось? – лепетал мой брат.
Меня трясло от холода, от злобы.
– Ты видел ее перед смертью! Ты был там!
Он раздумывал долгую минуту, бессмысленно пялясь на меня, а потом заорал:
– Я не видел ее! Она мне не открыла! Понимаешь, не открыла! Лучше бы я выломал эту проклятую дверь! Понимаешь? Я знал, что она там! Звонил, а она не открыла!
Тут я его ударил. Он запрокинул голову, стукнувшись затылком о крышу своей «Хонды». Из разбитого носа побежала темная струйка. Он утерся ладонью, размазывая кровь по лицу.
– Бей! – сказал он. – За все! – Он сунул руки за спину, желая показать, что не будет отвечать.
– Ты, подонок! Ты не давал ей прохода! Она тебя боялась!
– Я любил ее! Я готов был на все, я просил ее! Ты ведь не любил Лису!
– Что ты мелешь?! – Я опешил.
– Ты не способен любить, а она… – Голос его пресекся, лицо уродливо скривилось, и он заплакал.
Я представил, как Казимир разносит дверь, а Лиска, испуганная, мечется по квартире, а потом… открывает ему! Я словно раздвоился, я готов был обвинить Казимира в ее смерти и в то же время понимал, что брат говорит правду.
Мы нашли какую-то полупустую забегаловку, и он рассказал мне все.
Он ничего не мог с собой поделать. Он сходил с ума, не хотел жить, он умолял ее уйти от меня. Он катился по наезженной колее – доказывал ей, что я ее не люблю, что я не способен любить, что я тупой карьерист и жизни у нас не будет. Что у меня до нее была подруга мне под стать, и рано или поздно я к ней вернусь.
– Она была живая! – повторял он страстно, вытирая салфеткой окровавленный нос. – Живая, настоящая! Ты ее не ценил! Ты не понимал, какая она! Тебе всегда везло!
«А вот и голуби», – как любит повторять Лешка Добродеев. Брат мне завидовал.
– А я до всего доходил сам, набивая шишки. Конечно, ты старший, ты козырный, а я работяга!
Я слушал с изумлением – он все ставил с ног на голову! У меня мелькнула мысль, что он притворяется, это спектакль. Он был пьян, но не до такой же степени! Мне казалось, я знаю брата, но я ошибался. Права Лена – он мне завидовал и тянул руки к моим вещам и женщинам. И был при этом глубоко несчастен.
– Она меня не впустила! Я ждал ее на Олимпийской после сеанса, но не успел. Она взяла такси, я ехал следом. Она спешила – выскочила из машины и помчалась в дом. Я бросил машину у соседнего дома и побежал за ней. Я не видел, как она вошла в квартиру, я только слышал, как захлопнулась дверь наверху. Я был на седьмом. Лифт не работал. Я собирался сказать ей все! Утром я заявил Ленке, что наша жизнь ошибка, я так больше не могу. А Лиска меня не впустила! Нужно было к чертовой матери ломать дверь, я… идиот! Простить себе не могу! А потом… Мне жить не хотелось! Ты был единственным человеком, с кем я мог говорить о ней. Помнишь, как мы сидели и поминали… ее? Помнишь? Я звонил в дверь, а она в это время… Почему?
Похоже, он рассчитывал на мое сочувствие. Я смотрел на его несчастную жалкую физиономию, испытывая раздражение и жалость одновременно, и спрашивал себя, верю ли я ему.
Он пил воду, громко глотая. Остаток из стакана выплеснул себе в лицо.
На меня навалилась усталость. Я молчал. Мы не смотрели друг на друга. Потом он сказал тусклым трезвым голосом:
– Десятки смертей не поддаются объяснению. Не только жизнь не укладывается… в схему. Смерть тоже не укладывается. Мы не знаем и никогда не узнаем, почему она это сделала. А компакт и письмо… Лешка, наверное, прав – это случайность.
Жалкий, бледный, с разбитым лицом, Казимир напоминал сломанную марионетку.
Я почти поверил ему. Он ушел, не прощаясь. А я направился в другую сторону. Пешком. Город был пуст и звонок. Мои шаги звучали как удары молотка, забивающего гвозди. Я превратился в механического человека, мерно идущего в заданном направлении без малейшего участия мозга. Да и не стало мозга, не рождал он ни единой мысли, на месте его была тяжелая клейкая масса.
Уже у двери меня как толкнуло – вернулась способность соображать, и я вспомнил, что Ренаты нет. Острая спица сожаления ткнула в сердце, и я замер на долгий бессмысленный миг. Из-за двери донеслось поскуливание – песик почуял меня. Когда Казимир был маленький, он называл всю живность «животненькими», даже жуков. Животненький скулил из-под двери, ему было страшно и скучно. А ведь у него тоже проблемы, подумал я. Он потерял хозяина, ему одиноко, он чувствует, что не нужен мне, и боится снова оказаться на улице. Завтра же спрошу у соседей – может, они знают, чей.
Я постелил себе в кабинете – не мог и не хотел ложиться в постель, все еще пахнущую духами Ренаты. Сон не шел, я думал о смысле жизни… и вообще. Я считаю себя нормальным человеком, честным – настолько, насколько может быть честным прагматичный человек, умеющий идти на компромиссы в свою пользу.
Я никогда не подводил друзей, у меня каждый день расписан на месяц вперед, я знаю, чего хочу. Я не умею вытирать сопли, но, черт побери, я никогда не отказывался кому-то помочь. Я умею настоять на своем, я сделал себя сам.
Делает ли это меня сухарем и злобным типом? Не способным любить, как утверждают эти двое? Запоздалая обида поднималась во мне. Кто вы такие, чтобы судить? У каждого из нас своя правда!
Толик робко ткнулся мне в руку холодным носом, и я слегка сжал ладонь. Всю жизнь я вкалывал как проклятый – не из-за денег, нет! Мне было интересно работать. Я не умею трепаться за столом, пить водку, ездить на рыбалку – с моей точки зрения, это зряшная трата времени. Меня утомляет Леша Добродеев и раздражает пьяненький Казимир. По молодости я ходил в сауну – мне нравилось разгоряченному ухать в холодную воду, в этот миг я чувствовал себя потрясающе живым и сильным.
Так в чем же я виноват? Я – другой! И прийти мне не к кому – ввалиться ночью в состоянии полного раздрызга и получить отпущение грехов и утешение. Нет у меня таких друзей! Потому что я другой. Ну и что? Это дает им право?..