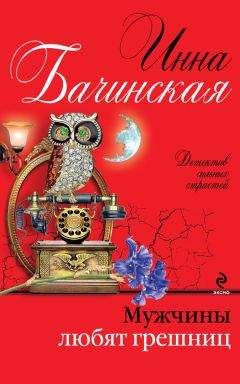– Когда ты прочитал письмо, мне стало дурно! – Ее возбужденный голос вернул меня в реальность. – Я ничего не могла понять. Откуда оно взялось? Она написала его на моих глазах и унесла с собой. И вдруг спустя семь лет… Мистика! Мне страшно, Тема! Что происходит?
– Не знаю.
– Может, это родственница?..
– Не знаю.
– Зачем?
– Не знаю.
Некоторое время мы сидим молча. Лицо у Лены несчастное – жалеет себя. А я раздумываю о том, оправдывается ли подлость слабостью и страхом. С одной стороны, каждый защищается как может, а с другой – подлость всегда подлость.
– Ты меня ненавидишь, – шепчет Лена. – Но пойми…
Она хочет, чтобы я ее пожалел и утешил. Бывшая моя женщина, ныне жена моего брата. Свои люди, сочтемся. Не чужие. Я поднимаюсь и, не прощаясь, ухожу. Меня тошнит от нее. Меня тошнит от брата – эта парочка достойна друг друга…
… – Как по-твоему, каких людей больше – хороших или плохих? – спросила Лиска однажды.
– Хороших, наверное, – подумав, ответил я.
– А почему тогда про хороших людей так мало слов?
– Что значит – мало слов?
– Мало! Вот ты, например, что можешь сказать про хорошего человека?
– Что он хороший.
– И все?
– Добрый, душа нараспашку. Еще не жадный, щедрый, широкая натура, веселый…
– Еще!
– Нужно подумать. Альтруист. Честный, порядочный, трудолюбивый. Умный. – Я замолчал, так как ничего больше не приходило в голову.
– Вот видишь! Совсем мало. А теперь смотри, сколько слов про плохих людей! – Лиска торжествующе смотрит на меня. – Сотни! Считай! Аферист, гуляка, врун, жадина, бездельник, ворюга, дармоед, завидущий, – затарахтела она. – Балбес, гад, блюдолиз, жулик, отморозок, проходимец, вертопрах, мазурик! – Она глотнула воздух. – Оглоед, паразит, козел, шарлатан, нахал, пропащий, урод, ханыга! И это еще далеко не все! Просто нужно подумать.
– Что такое «ханыга»? – спросил я.
– Ну… – Она пожала плечами. – Что-то отрицательное, какая разница? Может, доходяга или жулик. Но тенденция, по-моему, ясна. Что и требовалось доказать. Слов для хороших людей совсем мало. И что это значит, по-твоему? Что плохих людей больше?
Я рассмеялся, с удовольствием глядя на нее.
– Ничего это не значит. Слово «хороший» включает в себя все то, что ты сказала про плохих, только с приставкой «не». Поняла? Не ханыга, не жулик, не охломон и так далее. Плохой человек возбуждает больше эмоций – возмущения, злости, отвращения, потому и слов больше. Эмоции – двигатель словотворчества. – Лиска щелкнула языком от восхищения – вай, как сказал! Я сделал вид, что не заметил. – А хорошее воспринимается как норма. Так и с новостями – читатели любят жареное, сама ведь знаешь. А норма – скучна. Нам лучше про убийство, грабеж, насилие, а не про… про найденную старинную летопись или картину Леонардо да Винчи… где-нибудь в сарае.
Лиска задумалась.
– Возьми людей вокруг, твоих знакомых… кого среди них больше – хороших или плохих? Лешка Добродеев болтун и трепло, но человек неплохой. Твой дядя Паша – классный мужик, по-моему, добрый, хоть и тугодум. Наше все, культовый режиссер Виталий Вербицкий – выпендрежник, но не без таланта, смелый… или как это? Эпатажный! И личность. Я бы не смог, как он, спать в парке на газоне или шляться по городу босиком с венком на голове. Кто там еще? Мой братец – завидущий и ябеда, но зато работяга и талантливый архитектор. Лена… – я запнулся.
– Уютная домашняя хозяйка! – Лиска скорчила рожу. – Не личность! И вообще…
– Ладно! – пресек я критику. – О жене Цезаря только хорошее, поняла? Родственников не выбирают. Зато она готовит – тебе и не снилось.
– Не хлебом единым! – заявила она нахально. – Я бы с ней от скуки подохла!
– Много ты понимаешь, – проворчал я. – А теперь вспомни плохого человека, хоть одного. Злодея-бармалея.
Она снова задумалась, закатила глаза, сунула в рот прядку волос. Взглянула искоса, хмыкнула.
– Неужели я? – Я сделал вид, что обиделся.
– Нет, ты хороший, – сказала она, улыбаясь до ушей.
– Скажи, что любишь меня, – поддразнил я.
– Не скажу!
– Тогда я тоже не скажу!
Она посмотрела на меня долгим взглядом, и было в нем что-то… какая-то молчаливая мудрость, легкая печаль и сожаление, как будто она знает что-то, чего не знаю я. Так смотрят на шалящего ребенка. Так смотрят на смертельно больного родного человека, который радуется и строит планы на будущее, коего у него нет… Неужели она знала? Эта мысль обожгла меня, и только усилием воли я отбросил ее – не нужно кликушества! Я не верю в вещие сны, предчувствия и озарения. Никому не дано знать! Никому. Ни умному, ни глупому. Лиска была счастлива! Она пробежала вприпрыжку по своей короткой жизни, выпила ее до последней капли, выжала как лимон. И жизнь ее до самой последней минуты была исполнена прекрасного смысла…
Я спохватился, что стою на переходе и горит зеленый свет. Который на глазах сменился желтым, затем красным. Мне вдруг показалось, что я стою здесь вечность, а красно-желто-зеленый сигнал вспыхивает с завораживающей периодичностью, действующей как гипноз. Я вспомнил, как Лиска в той любительской ленте бросилась на красный свет… Острые локти, стремительные движения – нырнула как утка и побежала через дорогу… А вокруг хорошие люди, для которых придумано так мало слов: смеются, радуются, спешат…
Я звоню Ольге, но она не отвечает. Я не знаю, чего хочу от нее – она рассказала все, что знала. Вернее, ничего. С письмом – ясно, это не прощальное письмо. Остается только позавидовать чутью этой странной женщины, а также чутью Лешки Добродеева. Хотя, может, здесь не чутье, а… Может, она все-таки знает? Хоть что-то? Нет! Ей нет смысла никого покрывать – знала бы, сказала. В том-то и дело, что никто ничего не знает.
От встречи с Леной остался неприятный осадок. Поверил ли я ей? Пожалуй, да. Она способна соврать, но выдумать такую историю, нелепую с ее точки зрения, ей не под силу. Не понимая Лиску, она довольно точно описала ее реакцию. Похоже, не врет. Письмо не значит ничего. Лешка это понял – свой брат, писатель. А Ольга? И вдруг мне приходит в голову, что Лискино письмо неизвестно каким чином попало в руки этой женщины и она прекрасно знает, что оно не прощальное. Как Ольга сказала тогда – оно может и вовсе ничего не значить. Так мог сказать тот, кто знал точно, что оно ничего не значит. Хотя… необязательно. Я совсем запутался.
В тот день я больше не вернулся на работу. Позвонил, сказал, что не приду, а назначенные встречи велел перенести на завтра. И извиниться. Я не узнавал себя – впервые работа перестала меня интересовать. Я, оказывается, могу жить без банка. Впервые в жизни я шел куда-то не по делу, а брел куда глаза глядят. Вечерело, зажглись первые фонари. Народу на улице прибавилось. Я двигался в толпе, иногда касаясь плечом чужого плеча, вырывая из чужого разговора слово-другое. Я с удовольствием прислушивался к женскому смеху. Если судить о состоянии общества по уличной толпе после рабочего дня, можно заключить, что люди благополучны и счастливы, как школьники, сбежавшие с уроков. Они смеялись и болтали по сотовым телефонам.
Я не заметил, как оказался у театра. Ноги сами принесли меня сюда, это было вроде оговорки по Фрейду – подсознательно я думал о Ренате. У актрисы Ананко был выходной. Услышав это, я испытал облегчение. Я не решил окончательно, хочу ли видеть ее. Просить прощения, извиняться за твердолобость, обещать и каяться я не готов. Я стар и устал. Кроме того, я признался себе после некоторой внутренней борьбы, что обижен. Вполне человеческое чувство, не так ли? Я постоял на тротуаре, разглядывая горящие люстры через громадные окна без рам. Окно предполагает раму – в театре, казалось, нет окон, а только одни громадные проемы, что выглядит красиво и необычно.
На скамейке у моего дома сидела женщина. Я не узнал ее в первую минуту. Она встала, сделала шаг навстречу. К моему изумлению, я понял, что это воспитательница… Анечка! Я поздравил себя с тем, что помню ее имя. Невольно у меня мелькнула мысль, что ее присутствие здесь как-то связано с Ренатой или Павликом. Тут же я вспомнил, что мама не звонит – похоже, не знает о нашем разрыве. Неужели Павлик все еще с ней?
– Что-то случилось? – Я выдавил из себя улыбку. Эта девочка сейчас совершенно некстати.
– Нет, – сказала она неуверенно. – Я пришла… Добрый вечер!
– Добрый. Вы были рядом и решили навестить старого сухаря…
Я прикусил язык – мой игривый тон показался мне отвратительным. Старый дурак! Не забывай, что она из другого поколения и шутки у нее тоже другие.
Она, видимо, не знала, что сказать. Я заподозрил неладное – она избегала моего взгляда.
– Да в чем дело? Кто-нибудь умер? – Не лучший вариант, конечно, но надо же вывести ее из ступора.
– Нет! – воскликнула она испуганно. – Никто!
– Прошу! – Я пропустил ее вперед. – Или так и будем тут стоять?