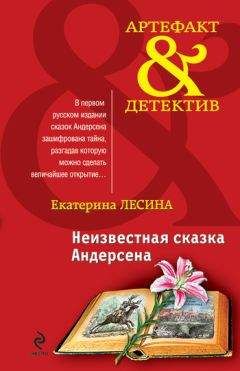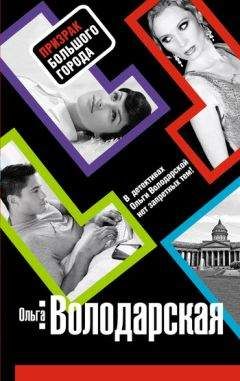– Давай, – Пашка пихнул Глашу в спину, сам проскользнул в щель и сноровисто – видать, не единожды ему случалось сотворять подобное – закрыл дверь.
– Это чтоб не заметили, – пояснил он. – А то Манька-зараза тоже любопытная, увидит, что дверь открытая, непременно нос сунет.
Глаша только кивнула, говорить она не могла от волнения и страха. Не следовало потакать Пашке, не следовало лезть в чужую комнату. А если он вернется?
– Не бойся, он в пальто уходил, значит, надолго. – Пашка вот чувствовал себя совершенно спокойно, он прошелся по комнатушке, добравшись до окна, прилип носом к стеклу, глянув и влево, и вправо: видать, во двор.
Разбойник он, Пашка, не зря его бабка дерет. И мамка дерет. И…
– Смотри, а ты не верила! Крысы! – Пашка ловко сдернул покрывало с сооружения, которое вначале показалось Глаше старым буфетом – у них тоже такой стоит, и мамка его иногда занавешивает, чтоб пыль не собирал. Но тут она увидела…
– Цыц! – Пашка вовремя зажал рот. – Они ж в клетках, дура!
Но Глаша не могла. Она ненавидела крыс, она боялась крыс, она… она не находила в себе сил отвести взгляд от десятка клеток, поставленных одна на одну, и от существ в этих клетках. А существа смотрели на Глашу. Белые, серые, пятнистые, толстые и худые, старые, с вылезшей шерстью и совсем крошечные, с розоватой шкуркой. Одинаково красноглазые. Одинаково внимательные.
И одинаково молчаливые.
Крысам полагается бегать и пищать, а эти молчали. Эти сидели на задних лапах, уцепившись за сетку передними, сидели и следили. За ней, за Глашей.
– Я отпущу, ты только не ори, – предупредил Пашка. – Они ж вон, за сеткою. И вообще не страшные. Я в подвал ходил, в купцовский дом, вот там-то пасюки! Как свиньи! А я все равно не боялся!
Глаша почти не слышала, она ощутила, как убралась со рта липкая ладонь – дышать стало легче и исчезла луковая вонь, – как воздух в комнате пришел в движение, беззвучно перелистнув страницы открытой книги, как воля, чужая, полностью подавившая Глашину, толкнула ее к клеткам.
Она не хотела подходить, но…
…ближе, ближе, ближе… не стоит бояться, девочка. Ты ведь очень хорошая девочка? А хороших девочек мы не трогаем. Только плохих. Или ты плохая?
– Нет.
– Ты чего? Глашка, ты чего делаешь? – Он ударил по протянутой к клетке руке. – Нельзя! Укусят же!
Белый крыс с темным пятном вокруг левого глаза – совсем как синяк – вдруг зашипел.
– Цыц ты, – Пашка ударил по сетке палкою – откуда только взял?
– Помоги, – это уже Глаше. И да, нужно помочь, нужно накрыть клетки, как раньше, и уйти.
…ты плохая. Плохая-плохая-плохая девочка! Ты забралась в чужой дом. Ты трогала чужие вещи. Воровка! Берегись, мы все видели, мы все расскажем, мы придем за тобой.
– Я не…
Плотная ткань наконец легла на клетки, и голос внутри Глаши исчез, а с ним и ощущение жути. И вправду, чего это с нею? Это со страху все, расскажи кому – засмеют. Или выпорют, что куда вероятнее, а потому рассказывать Глаша не станет. Она просто уйдет из этой комнаты и про все забудет.
И больше в жизни не согласится помогать Пашке.
Бандит он.
…да, да, бандит и разбойник… плохой мальчик. Плохих мальчиков нужно наказывать. И плохих девочек тоже…
– Что ты сказала? А, лучше сюда смотри. – Пашка, бесстрашный Пашка тоже боялся и именно поэтому не отпускал Глашину руку. Откуда она знает? А теперь она все про него знает.
Его бабка называет мамку проституткой и грозится выгнать, а еще жалеет внука-беспризорника. А он жалеет мамку, которую обзывают и обманывают, и себя жалеет, когда мамка находит нового отца – те отчего-то сразу принимаются Пашку пороть, а задница-то у него не казенная.
Пашке нравится Марфа – она иногда угощает его белым хлебом и сахаром, – но он в жизни не скажет об этом, потому как за хлеб его не купишь. И Глаша нравится, просто так нравится. Он даже жениться на ней думал, но потом передумал. Тоже просто так.
И от «просто так» залез в квартиру.
– Глаш, тебе плохо? Глаша? – Пашкин голос звенел в ушах.
А Пашкина жизнь просачивалась сквозь кожу, наполняя Глашу, пугая – а вдруг вся перетечет, тогда не останется места для нее самой.
Она видела себя его глазами: худую, темноволосую, с двумя косичками, левая растрепалась, а правая вверх поднимается собачьим ухом. У нее черные глаза, в которые страшно смотреться, и холодные руки. Она, кажется, умирает…
Ее кладут на ковер – тяжелая, не унести. И комната вдруг свивается воронкой, бело-серо-пятнистой, полной оскаленных крысиных морд и голых хвостов.
Крыс нужно бить. Да, Пашка умеет бить. Палку побольше и, главное, метко попасть – они шустрые.
– Глашка, не умирай! Слышишь? Не умирай!
Водоворот на мгновение замирает, а потом исчезает. И Пашка исчезает, и остается только комната: пустая, унылая комната. На стенах зеленые в нарядную золотую полоску обои, на полу рыжий половик, вытертый, но еще хороший. Кровать заправлена, подушки горкой, на верхней самой серая шляпа и лайковые перчатки.
Глаша не очень знает, что такое лайка, но она совершенно точно уверена, что перчатки эти – лайковые. Рядом, на кровати же, лежит щеголеватая трость с круглым серебряным набалдашником, а из-под кровати выглядывают лаковые штиблеты.
Вот слабо скрипнули доски, скользнула по половику тень, и над Глашей склонился человек.
– Печально, как печально, что такая хорошая девочка так плохо себя вела, – тихий голос, знакомое лицо. Круглое, с носом-пуговкой, густыми бровями и редкими рыжими усиками, которые Пашка считал приклеенными. У Федора Федоровича белая рыхлая кожа, собирающаяся складочками под подбородком, и четыре черных родинки на пухлой щеке. Ровненькие друг к другу, как специально нарисованные. – Залезла в чужую комнату, трогала чужие вещи… за это и поплатилась.
Глаше страшно. Глаша кричит, но из горла не доносится ни звука, и Тихий лишь печально качает головой:
– Вот видишь, что получается, если не слушать старших? А тебе еще повезло, я вовремя пришел, ты не успела надышаться, а вот твой друг… он ведь был твоим другом, верно?
Глаза-пуговки вперились в Глашу.
– Твоего друга, к моему превеликому сожалению, не удалось спасти. Лежи, лежи, я позову твою мать. Она очень за тебя переживала.
Мама не сердилась. Мама не грозилась поркой или другим наказанием. Мама плакала, не скрывая слез, не стесняясь их, как обычно, и от этого Глаше становилось еще страшнее. Она пока не поняла, что же все-таки произошло и почему она находится в комнате соседа? Почему не дома? И почему она онемела?
– Бедная моя, бедная девочка, – мама прижала к себе, поцеловала в макушку. – Это все он… разбойник… негодяй… господи боже ты мой, нельзя так о… кто же знал? А ты чего полезла? Ты ведь послушная была, добрая… подбил. Бедная Женька, все глаза выплакала… А ты три дня ни живая, ни мертвая. Гражданин Тихий как вернулся, так вас и нашел. Спас тебя. Спасибо скажи.
– К сожалению, – голос-шелест из-за маминого плеча заставил Глашу оцепенеть. – Говорить она не сможет, повреждения голосовых связок необратимы.
Мама опять разрыдалась, и теперь Глаша, прижимаясь к мягкой груди, внезапно поняла, что слышит, как глубоко внутри маминого тела рождаются всхлипы и хрипы, как поднимаются они вверх по тончайшим трубочкам, подкатывают к горлу, как выплескиваются причитаниями.
Это как машина. Колесики-зубчики, цепляясь друг за друга, вертят-вертят, натягивают струны-нити, заставляют поворачиваться рычаги, раскрывают мамин рот, сдвигают мешки-легкие, кривят губы, создают звук.
Глаша закрыла глаза, чтобы не видеть.
– Она устала. Нужно время. Нужно много времени, чтобы она поправилась, – шепотом сказал Федор Федорович. Из него звук не выходил, скорее уж звук голоса, как и прочие, существовал отдельно от Тихого, это было невозможно, но все же это было так. – Нет, нет, уважаемая, лучше, если девочка останется под моим присмотром, в противном случае я не берусь предсказать последствия. Ну конечно, вы можете навещать вашу дочь в любое удобное время. Единственно попросил бы вас не слишком злоупотреблять, моя работа…
Глаша проваливалась в сон. Странный сон, в котором крысы весело крутили огромное колесо, зубцы которого когтистыми лапами цеплялись за нити, а нити лопались со звоном и стоном. Глаше было жалко нитей, и она кричала на крыс, те же скалились и крутили колесо дальше.