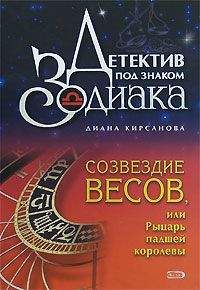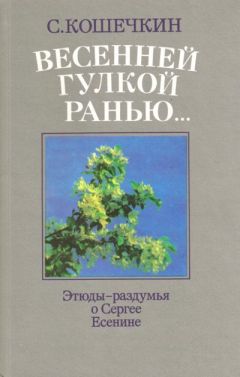– Я знаю, – сказала Кира.
Все свое детство она провела на руках у соседок и детсадовских сторожих. Мама появлялась редко, точно так же, как мало было мамы и в более поздних, школьных, Кириных воспоминаниях.
– Ну так вот! Зарплату Саня регулярно домой носил, Соня и не беспокоилась. А в один прекрасный день он домой не вернулся. Хвать – и на другой день его нету. И на третий… И вдруг явля-яется. В наручниках. Да не один, а с милиционером. А с ими и прокурор. Обыск у них в доме стали делать, меня в понятые взяли. Я на Соньку-то смотрю – закаменелая она вся, как неживая, и бледная, не приведи господь. Халатик на груди мнет, с Сашки глаз не сводит – и молчит. А милиционер тем временем шасть на антресоли и коробку оттуда тянет из-под Сашкиных штиблет. Коробку ту открыли, а там! Бумажников всяких да кошельков несчетно, да документы еще – одних только паспортов штук с добрый десяток на разные фамилии!
Кира представила себе эту картину: маленькая бледная мама, судорожно сжимающая у горла ворот домашнего халата, много чего повидавший равнодушный милиционер, затаившая от любопытства дыхание Вера… И стол в главной комнате, заваленный чужими вещами и липовыми документами…
– Какой позор! – пробормотала она, ежась от колючих мурашек.
Вера кивнула.
– Вот-вот, как менты эти ушли и Cашку с собой увели, Соня тоже все время это повторяла: «Какой позор, какой позор!» Уже ночь прошла, другой день наступил, а она все сидит на кровати и бормочет. Не скоро отошла. В простые секретарши к какому-то профсоюзному начальнику ей пришлось поступить, с работы-то прогнали, такое время было – нельзя партийному работнику в родственниках уголовника иметь… Саня-то, оказывается, карманником стал. Настоящим. В магазинах работал, на рынках, в кино. Особенно в троллейбусах любил кататься. В троллейбусе его и взяли.
Вера замолчала и, пожевывая губами, закатила глаза, подчеркивая трагизм момента. Ветер гнал по небу рваные лоскуты облаков. «Холодно», – подумала Кира.
– Суд был, – вздохнув, закончила Вера. – Пять лет ему дали…
Что-то в этих словах не состыковывалось, не давало принять их на веру. Ах да! «Пять лет»! Но ведь соседка сказала, что Кирин отец освободился совсем недавно!
– Дали ему пять лет, да только через пять лет он в Москву не вернулся. Прямо на вокзале, как из зоны вышел, грабанул кого-то – и загребли его сразу, со свеженькой справкой об освобождении. Пожалте, говорят, обратно, токо на этот раз сразу восемь вкатили, потому как он уже считается рецидивист. А я так думаю, что Саня это нарочно сделал, чтобы к Соне не возвращаться. Стыд-то глаза жжет. Ничего он не боялся, лихой парень, а Соню боялся. Потому что любил ее сильно. Единственная она у него была.
Они снова помолчали, а Кира ни с того ни с сего подумала вдруг, что сама она так ни для кого и не стала единственной – пусть даже и для карманного вора.
– Ну во-от, – внезапно погрустневшая соседка говорила теперь как-то тускло, без всякого удовольствия. – Потом, как восемь отсидел, слухи доходили – на третий круг пошел, все по тому же делу… Потом и на четвертый. Так и набралась ему четверная. И теперь он, Кирюха, вернулся. Наверно, свидеться захочет.
– Если мама не желает его видеть, то и я не хочу, – подумав, твердо сказала Кира.
– Это, конечно, дело твое. А все ж таки жалко мне его, Сашку. Ведь не случайно напротив вас поселился. Нет у него никого больше, только вы одни и остались…
– Если мама не хочет, я тоже не хочу!
Упрямство – это у них семейное.
Горе накрыло маленькую семью в этот же вечер. Вернувшись из института, Кира еще в прихожей удивилась омертвевшей, какой-то безнадежной тишине, царившей в квартире. И еще – едва уловимому запаху резковатого мужского парфюма и мокрым следам больших ботинок на коридорном половичке. Мама была дома, но из ее комнаты не доносилось ни звука.
– Мама!
Тишина.
Чувствуя, как сердце покрывается наледью страха, Кира, не разуваясь, прошла в глубь квартиры.
– Мама!
Мама лежала на полу у кровати, прямо на полу, неловко завалившись на бок. В широко открытых глазах плескалось отчаянье, рот кривился влево, силясь что-то сказать… Левая рука, вытянувшись по полу во всю длину, слабо царапала ногтями линолеум.
– Гиииии-и… – донеслось до Киры.
– Что ты? Что с тобой, мама?!
– Гии-иии….
Девушка обнимала Софью Андреевну, тормошила ее, пыталась посадить, положить на кровать, но мягкое тело болталось в ее руках, как тряпичная кукла.
– Гиииии-ииии…
– Что с тобой, мама, что?! Сюда кто-то приходил? Да? Ты его впустила? Он тебя обидел?
– Гиии-ииии-иии…..
Наконец она сообразила, что надо вызвать «Скорую», кинулась к прикроватной тумбочке, где стоял телефон. Накручивая номер, боковым зрением наткнулась на непривычный предмет. Машинально дотронулась пальцами – деньги! Целая пачка. Откуда?! Жили они небогато – это еще мягко сказано.
– «Скорая»? Примите вызов, с моей мамой плохо. Что? Пятьдесят два года, да, женщина. Я не знаю, какая температура! Быстрее, быстрее, девушка, записывайте быстрее, мне кажется, это инфаркт!
«Это» оказался не инфаркт, а инсульт. Кровоизлияние в мозг повлекло за собой необратимые последствия. Софью Андреевну парализовало, и она никогда больше не смогла говорить.
О загадочной пачке дензнаков, бог весть каким образом попавшей в их дом, Кира, целиком поглощенная новыми заботами, больше не вспоминала. И лишь много месяцев спустя, внезапно проснувшись ночью, как от толчка, совершенно ясно поняла, что случилось: в тот злополучный день к Софье Андреевне приходил Саня, ее бывший муж и ее, Кирин, отец. Это он принес и оставил на тумбочке пачку с деньгами, наверное, посчитав себя обязанным помочь женщине, потерявшей по его милости уважение окружающих, работу, карьеру и малейшую надежду хоть когда-нибудь выбраться из бедности.
«Мама видела его, говорила с ним. Наверное, он просил прощения, но она отказала ему… Тогда он достал деньги и предложил ей. И мама не вынесла этого последнего оскорбления, хотя «он», наверное, вовсе и не хотел ее оскорбить. Он ушел, а после его ухода с мамой и случился инсульт!»
– Гиии-иии… – вспомнила Кира последний звук, который она слышала от мамы. И вновь увидела руку, последним усилием воли вытянутую по направлению к тумбочке.
А на тумбочке лежали проклятые деньги! «Сожги!» – вот что хотела сказать дочери Софья Андреевна!
Но теперь это было уже неважно. Важно теперь было – вернуть маму к жизни.
Мама уже начала делать успехи, вполне членораздельно произносила «Ки-ра…», «Ста-кан…», когда однажды, придя с работы домой и с самого порога, еще не сняв ботинок, начиная быстро, преувеличенно бодро разговаривать с ней, – Кира зашла в комнату и увидела, что ее больше нет.
Она умерла тихо, как уснула.
– Отмучилась, болезная. Отмучилась, и тебя освободила, – говорили соседки.
А Кира, стоя у гроба с окаменевшим лицом, думала:
«Что же ты наделала, мама. Ведь теперь я осталась совсем-совсем одна…»
* * *
Как многие до нее, Кира была уверена, что никогда не привыкнет к равнодушному холоду пустой квартиры, бьющему прямо ей в лицо, едва только она открывала дверь. И, как те же многие, привыкла.
И вот в начале лета девушка зашла домой, немного постояла в коридорчике, не включая света и прислушиваясь к мерному тиканью будильника в бывшей маминой комнате. Вздохнула. Скинула босоножки. Прошла в комнату – подхватила лежащий на журнальном столике пульт от телевизора. Старый корпус перемотан изолентой. Потыкала в кнопки.
И вдруг вздрогнула, выронила пульт и едва не закричала: прямо перед ней в кресле сидел совершенно незнакомый, полный, лысый мужчина и добродушно улыбался бледными, почему-то дрожащими губами!
– Здравствуй, дочка, – сказал незнакомец. – Я к тебе. Не прогонишь?
– Кто вы?!
– Я… Я твой отец, Кирюша.
Она помотала головой, не в силах поверить. Отец! Тот, о ком мама при жизни не хотела даже упоминать! Тот, кто виновен в ее смерти! Опять пришел в их дом и расселся в кресле, так просто, так по-домашнему положив руки на подлокотники!
– Что вы… Что вы хотите со мной сделать?
– Кирочка, дочка…
– Уходите! Я милицию позову!
– Дочка…
– Не смейте называть меня дочкой!
Сарыгин (даже в мыслях она не могла назвать его отцом) вздохнул и потер переносицу. Потом снова взглянул на нее – и в этих глазах была боль:
– У меня же никого нет, кроме тебя, Кирка… Двадцать пять лет собирался с духом, чтобы вас навестить, и вот… опять получилось, что я зверь какой-то. А я не зверь, Кирочка, честное слово, я нормальный человек, живой… я твой отец…
Кира с ужасом заметила, что по круглым щекам его стекают слезы. Она никогда не видела, чтобы мужчина плакал, и это ее потрясло. И еще пришло другое – огромное облечение, потому что она поняла: этого человека бояться не стоит.
– И все-таки, что вы хотите?
– Сегодня… Сегодня хотя бы переночевать. Пустишь?