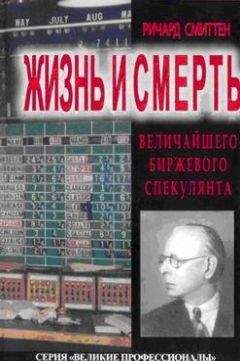Под этими показаниями Барса в протоколе виднеется дыра: тут были фрагменты, касающиеся Йоги и цианистого калия.
Видимо, Хмуру поразило то же, что и меня: тот факт, что разговор, как его передал Барс, никак не мог продолжаться целый час. Ну, хорошо, полчаса занял скандал из-за полагающейся Иоланте «доли», а дальше что? Что они делали еще тридцать минут? Делились семейными сплетнями, расспрашивали друг друга о здоровье? При той ненависти, которую они испытывали друг к другу, такая светская болтовня была бы невозможна. Похоже, Хмура тоже думал об этом, потому что он возвращается к этой проблеме на следующем допросе.
Однако прежде, чем в лоб атаковать Славомира Барса, Хмура выясняет непонятное обстоятельство: как могли появиться на подоконнике мастерской отпечатки пальцев Ромуальда Дудко и Тадеуша Фирко? Интересно, почему Хмура не спросил у них самих? Или он им не доверяет?
Неожиданно оказывается, что Барс может помочь Хмуре в этом деле. Он вспоминает:
«Когда я препарировал ночного мотылька, Дудко заглянул в окно, опершись руками на подоконник. Он вовсе не интересовался моей работой. Это Божена, не зная, что я в мастерской, просила его найти меня и привести к гостям. Он искал меня в саду, потом увидел освещенное и открытое окно мастерской, подошел и позвал меня. А Фирко… Что там было с Фирко?.. Ах, да! Когда остальные танцевали, мы разговорились о наших делах, о проблемах нашего объединения. Фирко сейчас собирает материал, который послужит опровержением вывода ревизоров. Музыка нам мешала, и мы вышли на террасу и разговаривали там стоя, опершись на перила, а потом прогуливаясь туда и обратно. Вдруг мне показалось, что стукнуло окно моей мастерской. Сам не знаю почему, но я испугался. Видимо, уже тогда меня мучило предчувствие, что случится что-то недоброе. Мы подошли к окну — оно было широко открыто, а ведь я прикрыл его, уходя из мастерской. Ни ветра, ни сквозняка не было. „Может, там внутри кто-то есть?“ — сказал Фирко. Я подал ему маленький карманный фонарик, который всегда ношу с собой — японский, величиной с зажигалку, настоящее чудо. Иногда летом я сажусь на скамейку в саду и включаю его. Ночные бабочки слетаются на свет, а я разглядываю их, нет ли экземпляров, которые пока еще отсутствуют в моей коллекции. Фирко взял у меня фонарик и закрыл окно. Видимо, тогда он и оставил на раме отпечатки своих пальцев. Я отвернулся от окна, и тут мне вдруг показалось, что кто-то шевелится у меня за спиной и вздыхает. На фоне темных деревьев маячило какое-то белое пятно. Это Йоги сидел на перилах террасы. Он казался испуганным, шерсть у него стояла дыбом. Я протянул к нему руку, но он злобно фыркнул, и я оставил его в покое. Я подумал, что Вожена забыла закрыть его, а плохое настроение кота объясняется шумом и присутствием чужих людей в доме. Я не связал тогда открытого окна со странным поведением Йоги. Сейчас, размышляя об этом, я все больше убеждаюсь в том, что все-таки Йоги, ища убежища в моей мастерской, наступил нечаянно на открытый экзикатор, на дне которого еще оставался цианистый калий. Фирко, по-моему, вообще не обратил внимания на кота. Он взял меня под руку и сказал: „Идем, нам пора вернуться в салон и посмотреть, что там творится. Мне не нравится поведение Иоланты. А о наших возражениях ревизорам поговорим завтра на работе“. Мы вернулись как раз в тот момент, когда Иоланта начала свой безумный танец…»
Из протокола видно, что Хмура не возражает против наивных выводов Барса о прогулках кота Йоги по дну экзикатора. Он удовлетворяется объяснением по поводу отпечатков пальцев Дудко и Фирко на подоконнике мастерской и переходит к вопросу, в котором он видит ключ к разгадке. На этот раз я читаю очень внимательно и не только ответы Барса, но и вопросы Хмуры, окружающего противника.
Хмура: Я хотел бы вернуться к вашим предыдущим показаниям о разговоре с Иолантой Кордес в вашей мастерской.
Барс: Вот как… Но вам придется напомнить мне, что я там говорил. Ведь это происходило уже две недели назад, а у меня сейчас столько важных дел, что вряд ли я смогу точно припомнить каждое слово.
Хмура: Вы разговаривали в течение часа. Иоланта предъявила свои претензии, а вы, в виде компенсации, предложили купить у нее какое-нибудь произведение в качестве материала для сценария.
Барс: Ах, да, конечно. Помню. Я это говорил. Так оно и было тогда. А вы, пан капитан, в чем-то сомневаетесь? Или вам нужны какие-то дополнительные подробности того разговора?
Хмура: Вот именно. Я хотел бы, чтобы вы более подробно рассказали о вашей беседе.
Барс: Да мне и добавлять-то больше нечего, я все сказал. Эта «беседа», как вы ее называете, была довольно краткой.
Хмура: Если так, она не могла продолжаться час. Двадцать, ну, тридцать минут, никак не больше. Я провел маленький эксперимент: расписал ваш разговор на два голоса, даже принял во внимание паузы, минуты задумчивости и так называемое «тяжелое молчание». А потом мы с нашей сотрудницей прочитали это здесь, в комендатуре. Мы делали все, что было в наших силах, чтобы тянуть время. Так вот: весь разговор не занимает и получаса.
Барс: Не возражаю. Видимо, так и было.
Хмура: Но ведь вы утверждаете, что никаких других тем вы не касались. Так что же вы делали оставшиеся полчаса, прежде, чем появились в саду среди гостей? Видимо, разговаривали. Но о чем? Я хотел бы знать это.
Барс: Не помню. Кажется, какие-то ничего не значащие любезности.
Хмура: Сомневаюсь. Никто не спрашивает во время поединка о здоровье противника. Между вами разгорелся конфликт, слишком острый, чтобы отпускать друг другу светские комплименты. Если вы не хотите говорить, то я сам скажу, о чем вы беседовали — и даже дольше, чем полчаса. Речь шла о Павле Бодзячеке.
Барс: Это дела настолько личные, что мне не хотелось бы их затрагивать. Я считаю, что они не имеют ничего общего со следствием. А откуда вы знаете, пан капитан? Разве нас кто-нибудь подслушивал?
Хмура: Имеют ли эти «личные дела» что-нибудь общего со следствием или нет, позвольте решать мне. А откуда я это знаю… тайна следствия.
Барс: Ну что ж, раз такое дело, мне не остается ничего другого, как только признать, что вы правы. Да. Мы с Иолантой говорили о делах Павла Бодзячека.
Хмура: И что же такого она вам рассказала? Вспомните, вы же сами навели меня на этот след. Вы же якобы согласились встретиться с Иолантой, когда она сказала, что у нее есть для вас новости о Бодзячеке.
Барс: Сдаюсь. И расскажу все, что говорила Иоланта. Но я прошу вас, пусть это останется между нами. Неприлично было бы мне распускать порочащие слухи о человеке, с которым у меня плохие отношения. Иоланта понимала, что ее положение слишком ничтожно, чтобы к ее обвинениям кто-нибудь прислушался. Она искала во мне союзника. И напрасно.
Хмура: Я приму это во внимание. Итак, я вас слушаю.
Барс: Я постараюсь повторить все, что говорила Иоланта о Бодзячеке, как можно точнее. Она сказала так: «Бодзячек под тебя копает, и ты это знаешь. Я случайно узнала об одной его афере. Вспомни начало писательской карьеры Бодзячека. Никому не известный молодой литератор, перебивающийся рецензиями на детские книжки и случайными газетными статейками, вдруг поражает всех великолепным романом „Подземная река“. Помнишь, это же было событие! Новый, острый взгляд на период оккупации, на подполье и партизанское движение. А стиль, а язык! Это было не похоже на все, что до сих пор писали. Когда он получил литературную премию за эту книгу, кто-то даже сказал: „Вот родился новый польский писатель, надежда и будущее нашей литературы“. А еще кто-то сравнивал этот удивительный стиль, казалось бы, сухой и сдержанный, на самом деле прямо-таки кипящий эмоциями и страстными спорами, — именно с глубокой рекой, скованной льдом. Да чего только тогда не писали о Бодзячеке и его „Подземной реке“! Я подняла все эти статьи, все прочитала, целыми днями сидела в библиотеке Союза журналистов. „Подземную реку“ переиздавали много раз, ее перевели на десятки языков, сделали радиоспектакль и, наконец, сняли по ней фильм. Именно тогда Бодзячек и стал работать в кино, разве не так? Вот ты киваешь головой, значит, хорошо помнишь… Ну, а что дальше? Что еще написал Павел Бодзячек? Через несколько лет, когда все доходы от „Подземной реки“ исчерпались, он написал „Здравствуй, солнечный день“. О колхозе и о несчастной любви доярки Марыси к классовому врагу — сыну бывшего помещика. Это было ужасно и не имело ничего общего с первой книгой Бодзячека. Не понятно было — то ли плакать, то ли смеяться. Великие критики сгорели со стыда, когда их фаворит так подвел их. Чей-то одинокий голос похвалил его за тему, да и тот, застеснявшись, умолк. Книгу просто обошли молчанием, потому что молчание — это была лучшая услуга, которую можно было оказать автору. Что же еще написал и опубликовал наш Бодзячек? Книгу путевых заметок о поездке по странам Европы, сборник слабеньких рассказов. И все. Все! Говорят, он готовит книгу своих фельетонов. Во всяком случае, автор „Подземной реки“ не стал настоящим писателем. А почему? А потому, что это не он написал „Подземную реку“. Что, не ожидал? Доказательства? У меня есть доказательства. В одной библиотеке — не скажу, в какой, потому что ты или кто-нибудь из твоих прихлебателей обязательно все мне испортите — в архиве одного знаменитого, ныне покойного писателя я искала какие-нибудь интересные, малоизвестные подробности его биографии для юбилейной статьи и случайно наткнулась на черновик, написанный от руки. Это была рукопись романа „Река подземная“, который написал некий Стефан Воймир, что следовало из письма, приложенного к рукописи. Письмо было датировано январем 1944 года, а роман был написан в период оккупации. Воймир просил знаменитого писателя оценить его дебют. И сохранить у себя рукопись, потому что молодой человек по некоторым причинам вынужден был покинуть город. Можно предположить, что Воймиру предстояло участие в какой-то опасной акции, и он не мог и не хотел забирать с собой таких вещей, как рукопись романа. В этой диверсионной акции он и погиб, кажется, это был налет на немецкий эшелон. Я сравнила „Реку подземную“ и „Подземную реку“. Слово в слово. Ты понятия не имеешь, сколько труда и времени мне стоило найти кого-нибудь из родственников Воймира. Некоторые автобиографические подробности книги дали мне нить. В маленьком городке на побережье я нашла жену и дочь Воймира. Жена его рассказала мне: „Во время оккупации мы были очень молоды и одиноки. Всю семью Стефана убили гитлеровцы. Он не хотел подвергать меня опасности, поэтому никогда не посвящал в свои дела. Я догадывалась, что он был связан с подпольем, знала, что он пишет. Но мы никогда не говорили на эту тему. Стихи он мне иногда читал. Прекрасные стихи. Жаль, что все они сгорели во время восстания. Он словно стыдился того, что писал. Он, видимо, не был уверен, что это чего-то стоит. А я была занята работой и ребенком. Я и не знала до сегодняшнего дня, что он послал свой роман этому писателю. Может, этот пан и искал меня после войны, но у меня в тех кругах знакомых нет, откуда ему было знать, куда я делась. После восстания я была на принудительных работах в Германии, потом вернулась и поселилась здесь, в тех местах, где родился Стефан. Только один раз, через несколько лет после войны, меня навестил приятель Стефана, его товарищ по школе и потом по подпольной работе, Павел Бодзячек. С ним Стефан во время войны часто виделся, этот Павел даже жил у нас какое-то время. Он спросил у меня, не осталось ли после Стефана каких-нибудь рукописей, заметок, дневников. Говорил, что он с радостью попытался бы опубликовать все это. И тогда я его спросила, не оставлял ли ему Стефан чего-нибудь на хранение, потому что Стефан как-то сказал мне: „Если со мной что-нибудь случится, обратись к Павлу. Я отдал ему кое-что, что может пригодиться тебе после войны“. Но Бодзячек ответил мне, что у него нет ничего от Стефана, что у него вообще все сгорело во время восстания, так же, как и у меня. И все, уехал, и больше не показывался. Вы спрашиваете, читала ли я эту „Подземную реку“. Нет. Милая пани, вы же видите, у меня швейная мастерская. Сразу после войны мне пришлось работать день и ночь, чтобы прокормить Хеленку. Да разве у меня было время читать книжки!“

![Иоанна Хмелевская - Бабский мотив [Киллер в сиреневой юбке]](https://cdn.my-library.info/books/184651/184651.jpg)