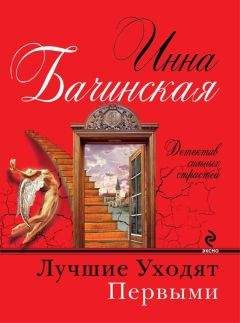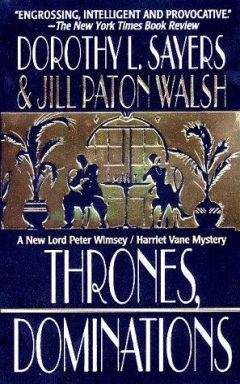Коля Башкирцев тоже не позвонил. Обиделся. И Савелий не звонит…
Только не зареветь! Эх ты, Санечка… Истеричка! Только не… Я заставила себя встать с постели и побрела в ванную. Из зеркала на меня смотрела женщина с несчастными заплаканными глазами. Я снова плохо спала. Мне снилась Людмила. Она стояла на перилах каменного моста, расставив руки, словно собираясь взлететь, и я знала, что она сейчас упадет. Я звала и кричала, но звука не было. Я в отчаянии разевала рот, как пойманная рыба, но из глотки моей не вылетало ни звука. Даже во сне я чувствовала тоску, страх и безнадежность…
Зазвонил телефон. Я схватила трубку. Это был Савелий Зотов.
– Ты как, Сашенька? – спросил он озабоченно.
– Нормально.
– Я тебя не разбудил?
– Нет, я уже встала.
– Я заеду в половине двенадцатого. – Он кашлянул, не зная, что еще сказать. – Будь готова…
Мне было жаль Людмилу. Мне было жаль себя. Мне было жаль Савелия. Некрасивого, доброго и одинокого. Все мы какие-то… неприкаянные, подумала я. Но хоть живые… Бедная Людмила!
– Спасибо тебе, Савелий, – голос у меня дрогнул. Я вспомнила, как мы хихикали с Людмилой над бедным Савелием, и мне стало стыдно.
– Это… ладно, – смущается Савелий, – так ты… в полдвенадцатого. Книги, кстати, привезу.
– Какие?
– Для перевода. Работать надо, Александра. Жизнь продолжается, несмотря ни на что.
– Снова про Майкла Винчестера?
– Не хочешь?
– Хочу! – ответила я искренне. Я соскучилась по Майклу, соскучилась по его нарядному миру, не имеющему ничего общего с миром реальным. Где хорошие люди не умирают… ну, почти не умирают, а зло всегда наказуемо. Где торжествует справедливость и всегда светит солнце. – Конечно, привози!
Проститься с Людмилой пришло полгорода. Конференц-зал студии не вместил всех желающих, и люди стояли в коридоре. Мы пристроились в конец длинной, медленно движущейся человеческой ленты. Перешептывание и шорох шагов сливались в неясный гул. Было душно, надрывно пахло цветами – сиренью и белыми лилиями. Тут были любопытные, стреляющие глазами, пришедшие словно как на спектакль, равно как и печальные, заплаканные, задумавшиеся о бренности сущего.
Студия была в полном составе. Редакторы, журналисты, операторы. Секретарша Чумарова Валечка, по традиции влюбленная в шефа. Тетя Капа, техработник, или попросту уборщица. Вопиющий «вокс попули» – глас народа. Переводчица сериалов Алла Борисовна Брик – немыслимо элегантная дама без возраста, в черном костюме и черных перчатках. Умением носить перчатки под платья и костюмы, утраченным примерно в середине прошлого столетия, Алла Борисовна владела в совершенстве. Если бы я увидела ее без перчаток, она показалась бы мне неодетой.
Чумарова не было. Не может быть!
– У нас такое горе, – шепчет, всхлипывая, Валечка мне в ухо. – Такое горе… Не передать!
Как будто бы я не знаю!
– А где Чумаров?
– Как? – Валечка отшатывается, уставясь на меня расширенными от ужаса глазами. – Вы не знаете?
– Что?
– Виктор Данилович трагически погиб!
– Как погиб? – Я ошеломлена. – Когда?
– Упал с балкона… Сегодня, в три утра…
– Судьба! – вмешивается «глас народа», шевеля усами. – Не суждено на земле, встретятся там. – Тетя Капа возводит очи горе. – И положат почти рядом… За два дни много не нахоронят.
– Регина не даст, – шепчет Валечка. – У них участок закуплен на всю семью, в престижном районе, направо от центральной аллеи.
– О-с-споди, – вздыхает, как кузнечные мехи, тетя Капа, – и там нет справедливости! И там за деньги! Конечно, кому здесь хорошо, тот и там не потеряется. – Она крестится и добавляет: – Судьба. Все от судьбы зависит. Хоть как ты не трепыхайся, что на роду написано, то и сбудется!
– Как… это случилось? – выдавила я.
– Обыкновенно… Прыгнул – и насмерть! – Тетя Капа взмахнула рукой, словно припечатывая невидимый вердикт судьбы. – Жить не хотел. Я чувствовала, говорю соседке: не сделал бы он чего над собой. Ходил сам не свой. Как в воду смотрела. А соседка – она ворожит на яйцах с нитками – говорит: не жилец он, Капа, ох не жилец! Недолго ему, говорит, осталось землю топтать. Очень он ее любил, Людмилку-то. Не судьба! А ее смерть… ее смерть тоже как-то не по-людски… – Тетя Капа оглянулась. – Не к добру это! – заключила она драматическим шепотом и снова перекрестилась.
– Тише, – зашипели на нас со всех сторон.
Я стояла ошеломленная. Чумаров, Витя Чумовой, толстощекий, благополучный, трусливый, с неба звезд не хватающий… погиб? Трагически погиб? Упал с балкона? Я представила себе, как он подтаскивает стул, становится на него, стоит минуту, раздумывая и решаясь, ступает на перила и…
«Так не бывает, – думала я со смертной тоской, – такие, как Витя, не кончают жизнь самоубийством… Неужели он так любил Людмилу?»
…Я смотрела на ее бледное, отрешенное, безмятежное лицо с глубокими тенями под глазами, в пене белых кружев… До меня долетали отдельные слова из прощальной речи редактора информационной программы, ироничного и ядовитого Глеба Раскольника.
– Наш товарищ, честный, принципиальный журналист… – басил Глеб, – гуманист и замечательный человек… прекрасная женщина… Память о Людмиле Герасимовой… в наших сердцах… вечно!
Я судорожно схватилась за рукав Савелия – мне показалось, что я падаю. Пол странно кренился подо мной. Колени дрожали противной мелкой дрожью. Савелий обнимал меня за плечи. У него тяжелая сильная рука.
– Люсенька, – шептала я, глотая слезы, – прости меня… Прощай… прощай, Люсенька! Прощай, моя подружка! Никогда больше мы не заберемся с ногами на мой старый безразмерный диван, не будем сплетничать, дурачиться, издеваться над Савелием и Витей Чумовым. Не будем хохотать как ненормальные и строить планы на будущее. Никогда… Прошай, Люсенька! Прощай, моя хорошая…
Я уткнулась лицом в пиджак Савелия и разрыдалась…
…Не помню, как мы добрались домой. Добрый Савелий увез меня с кладбища сразу после погребения. От слез, горя и страха я мало что соображала. Перед глазами у меня стояло бледное лицо Людмилы, беззащитное и покорное, смирившееся… Венки с черными лентами, холмик резко пахнущей сырой земли. А в ушах – глухой стук земляных комьев о крышку гроба.
– Завтра, – бормотал Савелий, притащив меня в ванную и умывая мое лицо холодной водой. Мне было больно от его жесткой царапающей ладони. – Завтра придем… к ней, когда никого не будет… спокойненько посидим… попрощаешься… все путем… выпьем за упокой, как полагается… А сейчас спи!
В голове у меня билась одна мысль: «Не может быть! Это все мне кажется… Сейчас я проснусь… и увижу живую Людмилу… живую и смеющуюся… Господи! Как же это? За что, Господи?»
Савелий уложил меня на диван, накрыл пледом. Сел в кресло рядом. Пряди его длинных «маскировочных» волос упали с макушки на левое плечо, и обширная лысина засверкала, как полированный кегельный шар. Галстук сбился в сторону, из закатанных рукавов рубахи торчали мосластые волосатые руки. Выражение лица – сосредоточенное, на скулах ярко-красные пятна румянца, брови над близко посаженными глазами торчком. Савелий похож на клоуна из цирка. С той разницей, что внешность, над которой всякому клоуну пришлось бы долго и упорно работать, досталась Савелию даром. Я вдруг начинала истерически смеяться. Брови Савелия изумленно поползли вверх, рот приоткрылся, и он стал похож на обиженную рыбу.
– Дуреха, – сказал Савелий укоризненно. – До чего ж ты все-таки дуреха! Совсем девчонка. Воспитывать тебя некому. Вот освобожусь чуток и возьмусь за тебя… выбью дурь… совсем от рук отбилась…
Он говорил и говорил, но я уже не слышала. Я спала.
Сон мой был больше похож на обморок. Время от времени я приходила в себя, приоткрывала глаза и видела Савелия в кресле, читающего журнал. Лицо у него одухотворенное, губы вытянуты в трубочку, что служит признаком интеллектуальных усилий. Слезы наворачивались у меня на глаза, и я снова впадала в сон, похожий на обморок.
Савелий – настоящий друг! Единственный настоящий друг. Больше у меня никого нет. Савелий и Майкл Винчестер. А Шлычкин… предатель! А я навоображала себе… Боже, какая дура! Да у него вместо сердца сейф с деньгами! А Колька Башкирцев – фат и бабник. И только косноязычный интеллектуал Савелий Зотов, при взгляде на которого я с трудом удерживаюсь от смеха, настоящий и надежный друг. Рыцарь без страха и упрека. Я вспоминаю Людмилины слова о статусе. Не только статус… Я пытаюсь поймать ускользающую мысль. Не только статус… еще и пожалеет… скажет: ах ты, моя дуреха… обстругает гладенько доску и освободит от домашней работы… чтобы я могла… рисовать… При всей их твердолобости, бесчувственности, невнимательности… в каждом из них есть что-то… что-то от Майкла Винчестера… крупица, зернышко, крошка… рыцарства и благородства!