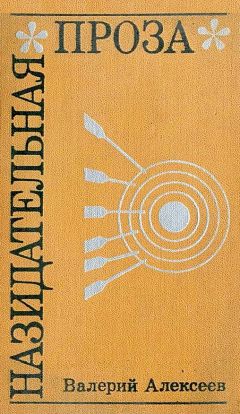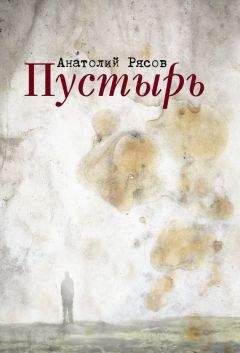— Видимо, к прозе вы относитесь более терпимо?
— К прозе да. Хорошая проза — это уже поступок, хотя бы потому, что хороший прозаик умеет удержаться от абсолютизации своего «я». Он создает несуществующий мир, внутренне непротиворечивый, и чем меньше он при этом делает деклараций, тем крепче проза сколочена. Стихи же по природе своей невозможны без деклараций.
— Вот тут вы как раз ошибаетесь, — с живостью возразил Иван Федотович. — Хорошие стихи вполне возможны без деклараций. Вы рассуждаете о словах и поступках, но вы совсем забыли о чувстве. «Не жалею, не зову, не плачу» — много ли здесь деклараций?
— Пример в мою пользу. Этим стихам предшествовала личность, притом личность интересная сама по себе, Но вопроса о чувстве я не снимаю. Давайте разберемся, что такое чувство.
— Давайте.
Достав из кармана куртки чистый носовой платок, Илья протер запотевшее лобовое стекло — дождь не шел, а валил, как снег.
В двух шагах не было ничего видно, пропало и то зеленое, что маячило впереди.
— В одном сугубо научном журнале, — неторопливо продолжал Илья, — я прочел, что, по данным электроакустического анализа интонаций человеческой речи, все чувства сводятся к семнадцати группам, соответственно выражающим радость, восторг, удивление, чувство патриотизма — не удивляйтесь, именно так: электроакустический анализ позволил зафиксировать в человеческой речи специфическую интонацию патриотизма. Потом, дай бог памяти, ах да, страдание, любовь, гадливость, гнев, гостеприимство, тоска, безразличие, облегчение, страх, сомнение, смирение, уверенность, одиночество. Кажется, все. Сколько получилось?
— Семнадцать. Память у вас, однако…
— Разве можно такое забыть? Разумеется, это исследование в кавычках представляет собой типичный пример артефакта: достаточно сказать, что электроакустика не выделила интонации насмешки или на худой конец иронии. Техника небеспристрастна: она верой и правдой служит тому, на кого работает. Но я не об этом. Оставим в покое чувство юмора, сделаем его восемнадцатым элементом в системе. В определенном смысле это исследование отражает накопленный если не технический, то житейский опыт. И что же мы имеем? Радость, восторг, удивление, гнев — декларативны, равно как и чувство гостеприимства, отнесем туда же и патриотизм. Страх, гадливость, безразличие не нуждаются в поэтических средствах. Смирение, облегчение для стихов также слишком пассивны. Одиночество, тоска и страдание, допускаю, могут быть поэтически выражены, но сами по себе, вне комплекса мыслей, они малоценны. Что в итоге? Уверенность, сомнение и ирония. Вот поистине вечные, неизбывные чувства, свойственные человеку от младенческих дней. Но сумеет ли поэзия подняться до высоты этой драмы «Уверенность — сомнение — ирония»? Тогда это должна быть поэзия мысли, неважно, в чем она выражается, в стихах или в научных статьях. Боюсь, что стихам эта драма не под силу. Тут требуется, чтобы стихотворец был безусловно умнее меня либо знал то, чего я не знаю. Право же на выражение всех прочих чувств можно нынче заработать только поступком.
— Вы забыли о любви, — напомнил Иван Федотович.
Илья не смутился.
— В самом деле? — переспросил он. — Действительно, как-то выпало. Ну что я могу сказать? Любовь — это тоже поступок. Причем поступок, безусловно, предшествующий стиху.
Тут в лобовое стекло постучали.
— К вам можно? — раздался голос снаружи.
Возле машины стояла Рита. Дождь уже кончился, трава и кусты сверкали, забрызганные водой, и на том берегу появилась полоса чистого солнечного света.
— Ну, мальчики, вы хороши! — сказала Рита, влезая в кабину. — Вас можно было поджечь, вы бы и не заметили.
7
Илья во дворе рубил хворост тяжелым кривым секачом, найденным в чулане: топора в хозяйстве, как и следовало ожидать, не оказалось. Рубил он мастерски, потом складывал в пучки одинаковой длины и перевязывал прутьями, как веники; по его утверждению, такие пучки (или, как он называл их, «фашины») должны были особенно продуктивно гореть. Иван Федотович переносил «фашины» к печке, а женщины, раскрасневшиеся, довольные друг другом, обсуждали вопрос, на какой основе готовить горячее. Можно было позаимствовать курочку у бабы Любы, но Леля и без того задолжала ей порядочно, и ей не хотелось, чтобы всплыл вопрос о деньгах.
— О господи, — сказал Иван Федотович, послушав, как они разговаривают. — Чего проще? Надо взять живую кошку, прямо с шерстью и с глазами, пропустить сквозь мясорубку и заправить чесноком. Раскатать потоньше тесто, наготовить чебуреков и, полив кошачьим визгом, подавать скорей на стол.
— Какая прелесть! — Рита захлопала в ладоши. — Вы это только сейчас сочинили?
— Нет, отчего же? — серьезно ответил Иван Федотович. — Это фрагмент из поэмы «Гестии, богине домашнего очага».
Леля смотрела на него с удивлением, Ивана Федотовича было трудно узнать. Добродушный, в меру насмешливый, он был сегодня просто в ударе.
— Ой, прочитайте что-нибудь, ради бога! — попросила Рита. — Я понимаю, Ольге Даниловне это не внове, но я просто истосковалась по свежим стихам.
— Пожалуйста, — сказал Иван Федотович. — Вот наисвежайшее. «Как дивно пляшет кенгуру под колокольчиком кудрявым! Проказница, шалунья, право, или шалун, не разберу. Пляши, ма шер, тряси хвостом, тугим упористым отростком. И я когда-то был подростком с оскаленным по-щучьи ртом. И я метался и алкал под колокольчиком шелковым в погоне за каким-то новым. Но вот свое уж отскакал — и потускнел лица оскал».
Трудно сказать почему, но Рита почувствовала себя задетой.
— Да, — сказала она, порозовев и отвернувшись. — Да, конечно. Очень даже, как бы это сказать…
— Ну что ты, Ваня, право, — укоризненно проговорила Леля. — Поставил девочку в неловкое положение. Это он пошутил, Рита, милая, не обращайте внимания.
— Я вовсе и не думал шутить, — удивился Иван Федотович.
— Ну прямо! — сказала Рита, глядя на него исподлобья. — А что же чертики в глазах? Вы очень язвительный товарищ.
8
Отобедали.
Молодые ушли в «летнюю комнату» поваляться на топчане, Леля занялась уборкой в горнице, а Иван Федотович вышел на улицу и встал у плетня, куря папиросу за папиросой и неподвижно глядя себе под ноги, в сырую траву. Леля знала: он готовит себя к работе, — и выбегая в сени по своим суетливым делам (то с тряпкой, то с ведром, грязи накопилась целая уйма, еще не хватало, чтоб ее бывшие родственнички судачили потом, от какой напасти избавился их клан), поглядывала на Ивана Федотовича со всевозрастающим беспокойством. Он, кажется, твердо вознамерился выйти в народ, и Леля предчувствовала, что стыда избежать не удастся.
Действительно, Иван Федотович готовил себя к работе. Начало поэмы, гулкое и мощное, уже вздымалось у него в голове. «Безмолвный взрыв, ворочаясь в пустыне, тяжелым языком сказать пытался все сразу, как поэт. И прогремело…» Дальше пока было зияние, угольно-черный провал. А еще дальше виделось свободно и ясно, садись и пиши: «Еще одно из чуждых нам открытий — что Гений и Злодейство суть две вещи, прекрасно совместимые, притом с устойчивой способностью сливаться в одном лице. Да что такое Гений, как не злодейство над самим собою, и дай бог, если только над собой…» И все это сильно вязалось с главным: предостережение, вот что озаряло, весь замысел изнутри. Подарок — предостережение. «Живите на реке. Встречайте два катера, вечерний — весь в огнях, и утренний, плывущий из тумана. Вам будет хорошо, и оттого еще, что катера там ходят регулярно и так же регулярен там закат, оранжевый, имеющий на фоне церквушку черную и купу черных ив…» Откуда взялись катера, Иван Федотович не знал, но что-то тревожное было в этом образе механических привидений, регулярно возникающих на ночной и на туманной реке. Возможно, они уйдут в небытие, не потянув за собой мысли… Все может быть, но явились они сами, а значит, уже не напрасно. И васильки, многострадальные васильки, вот что с ними теперь получается: «В природе есть возвышенная мера, дробящая прекрасное на части, рассеивающая по пространству все то, что мы хотели бы собрать. Прекрасное есть только след идеи, осколок, сколок, слепок, срез идеи, но не сама идея целиком. К чему я это? Поздно, неумело, ведь васильки в букете поседели. Но я сберег их синеву и свежесть в словах. Примите ж мой подарок царский — букет цветов, рассыпанный во ржи». «Букет, рассыпанный во ржи» — неплохой зачин. Но как же взрыв? Букет и взрыв, взрыв и гибель, злодейство, предостережение… Можешь, Иван, можешь!
Из задумчивости его вывел голос Риты. Иван Федотович обернулся — Маргарита стояла на крыльце с транзистором в руках и смотрела на поэта с удивлением, чуть ли не с испугом.
— Иван Федотович, вы меня слышите? Я уже целый час вас зову.