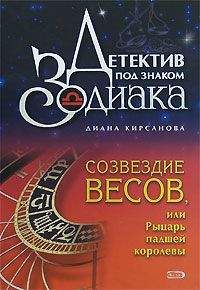Ада еще продолжала говорить, а я слушал ее, закрыв глаза и раскачиваясь из стороны в сторону. Близнецы. Близнецы… Никогда я не был особенно силен в гороскопах, но Близнецы! Тот, кто родился с двадцать первого мая по двадцатое июня.
Когда мы праздновали этот день рождения, всегда стояли теплые дни… И все мы так радовались, что впереди их еще так много…
Ада говорила, и голос ее становился тише с каждой фразой:
– Я думаю, ты простишь мне мою самонадеянность, как и то, что, оставшись в твоей квартире одна, я проверила ее на предмет ненужной «начинки», а затем стала перебирать твои альбомы с фотографиями. Меня интересовали фото семейных посиделок. И в первую очередь даты под ними – я знаю, Стрельцы очень трепетно относятся к видеозаписям, фотографиям, рисункам, другим свидетельствам своей не столько личной, сколько семейной жизни. И… думаю, ты уже сам все понял. В первом же альбоме, примерно на середине, я нашла то, что искала… И поняла: я была права. И в том, что убийца – Близнец, и в том, что этот Близнец – тот самый человек, которого я с самого начала подозревала.
* * *
Это была классическая засада. Я чувствовал себя настолько отвратно, что охотно согласился бы умереть, лишь бы не приходилось сидеть в этой дурацкой засаде.
Тишина стояла абсолютная, да и кому было ее нарушать: ведь наша квартира находится на четвертом этаже, а жильцы пятого, равно как и третьего, на выходные уезжают на дачу… Лифт тоже не ездил. Дом спал. Казалось, гостей ждать неоткуда…
Но я знал, что убийца придет. Ведь он был уверен: сегодня меня не будет дома. Он знал об этом из первоисточника. Я сам ему сказал об этом несколько часов назад…
Прошел, наверно, еще целый час. И тут я очнулся, как от толчка! Снизу, набирая скорость, поднимался лифт. Это могло ровным счетом ничего не означать, лифт вполне мог везти загулявших гостей, но нервы мои были обнажены: мягкий звук поднимающейся кабины показался чуть ли не шумом электропоезда!
Я вскочил на ноги. От возбуждения чуть не прыгнул вниз, к двери, но быстро взял себя в руки. Стараясь проделать все как можно бесшумнее, отступил назад, в тень…
Лифт остановился на моем этаже!
Широкая дверь плавно отъехала в сторону.
Никого…
Неужели пустой?..
Нет!
Из нутра кабины выдвинулась и медленно прокралась вдоль стены невысокая, полностью одетая во все черное фигура.
Постояла на площадке.
Направилась к моей двери…
Я услышал, как по ту сторону раздался звонок.
– Вы ко мне?
Это сказала Ада, но сказала не из-за двери. Она вышла из ниши между лифтом и лестничными перилами. Фигура развернулась резко, одним прыжком. Посмотрела.
– К тебе, – очень тихо ответила она. – Я сам пришел сделать тебе предложение.
– Предложение? Сейчас? Здесь?
– Да. Это очень интересное предложение. Ты не сможешь от него отказаться. Это… Это предложение умереть.
Снова короткий быстрый прыжок, в поднятых руках убийцы мелькнула удавка, он натянул ее, Ада отступила, прижалась к стене…
– Стой! – крикнул я, выступая из тени. – Ты ошибся.
Человек проворно развернулся в мою сторону всем корпусом и замер.
– Ты ошибся, дядя Веня, – сдавленным голосом сказал я ему. – Ты страшно, ужасно ошибся…
Я никогда не воображал, будто моя роль в жизни очень значительна, нет, напротив… Мои ровесники – коллеги, друзья – приближаются к сорока-, потом пятидесятилетнему рубежу, и каждый, так или эдак, начинает задумываться, помните, как у поэта – «Земную жизнь пройдя до половины…». Я прислушивался к этим разговорам, обычно не очень трезвым, в мужской или смешанной компании – на работе, во время долгих часов в реставрационных мастерских, когда их затевают, чтобы дать отдохнуть пальцам и глазам, сняв измазанные краской и пропахшие ацетоном перчатки и прислонившись головой к холодной стене у выставленных рам, на которых натянуты для просушки холсты.
Или во время редких мужских встреч с друзьями, на скамейке в парке, возле распластанной газеты с символической закуской и бутылкой не самой дорогой водки – я не любитель, но меня не слишком тянуло домой. С самого первого дня брака мы с женой ни разу не пережили кипения страстей, и все чаще обоим хотелось подольше не возвращаться к уставшим и равнодушным выражениям на лицах друг друга. С годами это выражение вечной усталости почти впиталось в складки ранних морщинок моей жены и, я знаю, застыло в моих глазах – мы делали вид, будто не замечаем этого, но я старался не торопиться домой, если представлялась возможность провести время с другими, хотя в этих посиделках мне и отводилась роль молчаливого созерцателя – я не возражал.
После первых нескольких рюмок они начинали шуметь, взмывал и ширился разговор, который при всей разнообразности зачинов всегда был одного содержания: шестой десяток лет на подходе, а что сделано, что в сухом остатке? Обязательно оказывалось, что кому-то подрезали крылья, испортили жизнь, перепахали биографию, мои собеседники начинали повышать голос, грозить кулаками невидимым врагам, с громким стуком ставить стаканы на скамью, иногда размазывая по лицам пьяные слезы, иногда нервно закуривая очередную сигарету, и, наконец, мы расходились по домам, опустошив карманы и души, прекрасно сознавая втайне себя свою неправоту, но никогда не произнося этого вслух.
Я шел домой, готовился к тому, что сейчас меня снова встретит стена немого упрека – хотя пьян я не был, – но в то же время чувствовал, как все мое существо заливает тихая радость. Это чувство не покидало меня вот уже пятнадцать лет, оно было василькового цвета и легким, пушистым на ощупь. Стоило мне подумать о Нем, и я чуть не задыхался от нежности, поднимал голову – и смотрел на небо победителем: ну и что, думал я, что с того, что мне скоро шестьдесят лет и что мне никогда уже не подняться выше, что я неуклюжий, сутулый и толстый человек с плохой памятью, в мешковатом костюме и маленькой зарплатой? Но зато – зато у меня есть Он.
Он – это мальчик, всего лишь мальчик с аккуратно причесанными на прямой пробор волосами и в рубашке с белым воротничком, выпущенным поверх серого свитера. Таким я увидел его тогда, пятнадцать лет назад, в одном из залов нашего музея и такой же точный образ унесу с собой туда, в тюремную камеру, или в тот колодец темного арестантского двора, где меня расстреляют.
Никогда, слышите, никогда мое отношение к этому ребенку не вырывалось за заградительный кордон греховных мыслей. Ни словом, ни делом, ни жестом за все пятнадцать лет я ни разу не дал ему понять, что люблю его не только как сына. Никто не знал, чего мне это стоило – мимоходом положенная на плечо мальчика, а затем юноши отеческая рука, нежное поглаживание по затылку – и что особенного? – но к каждому этому действию я готовился, как к священному таинству первой брачной ночи, и долго потом ласкал и нежил руку, которой посчастливилось прикоснуться к его волосам, коже! Я долго, очень долго шел к тому, чтобы счастье обладания – на расстоянии – обладания этим мальчиком, а затем и юношей стало моей ежедневной радостью. Целый год я разыгрывал комедию неуклюжей влюбленности в эту женщину – его мать. Когда в конце концов мы поженились, я тут же предложил усыновить мальчика и, наверное, сделал это слишком поспешно, потому что радость, появившаяся на лице моей жены, как-то сразу сменилась тенью недоумения, но я опомнился, разогнал эту тень целым камнепадом фальшивых признаний:
– Милая, ты же знаешь, я люблю все, что любишь ты. У нас с тобой вряд ли возможны дети, и я хотел бы воспитывать Стасика, как своего…
Остаток вечера она прорыдала у меня на плече. А я закрывал глаза и представлял… представлял себе совершенно невообразимые вещи.
Я знал, что они невообразимые. Легко было Гумберту Гумберту, герою набоковской «Лолиты», признаваться в своей запретной любви и даже с удивлением отмечать, что его мечта, его нимфетка, сама очарована этим «пятиногим чудовищем»! Гумберт был хорош собой и прекрасно образован – я же лишь образован, но разве это могло представлять интерес для десятилетнего мальчика? Мою страсть даже нельзя было назвать, как в случае с той же книжной Лолитой, «порочно-красивой». Она была всего лишь смешной: толстый, лысый, неуклюжий старик – и пленительно-прекрасный юноша, тело которого, даже сокрытое одеждой, напоминало тело греческого бога…
Я всего лишь мог сделать так – и делал это, – чтобы моему юному Нарциссу было со мной интересно. «Ах, какой редкий случай отеческой любви к совершенно чужому ребенку!» – вздыхали подруги моей жены. А я, глядя из-под очков на эти какие-то одинаковые, похожие на блины лица старых дев и старух, чувствовал себя безмерно, бесконечно одиноким.
«И все-таки, – думал я, подбадривая себя тем единственным способом, которым располагал. – И все-таки у меня есть ОН…»
Но мальчик рос, юноша мужал и все дальше отдалялся от меня, и вот уже он стал совсем взрослым, и мы с женой подарили ему мою московскую квартиру, а сами переехали на окраину. Нормальный поступок, стандартное проявление родительской любви! Но никто не знал, скольких мук стоило мне это решение, и никто даже не догадался, что я оставил себе ключ от дома, где теперь жила моя любовь.