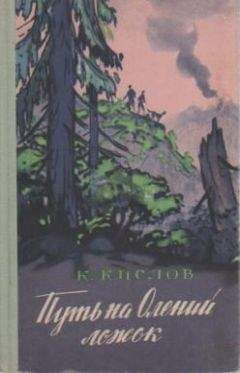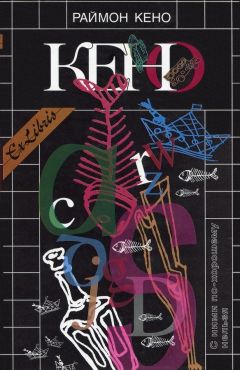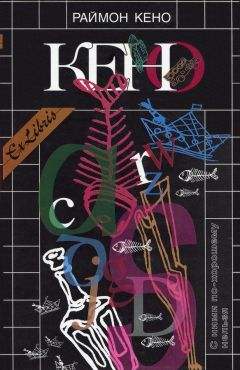— Напрасно трудишься, — продолжал смеяться Стриж, — все равно жизнь твоя кончается, а на том свете и с поганой кровью принимают.
Когда они добрались до своей палатки, их ждал обильный и вкусный обед. Оспан и Тагильцев за это время успели наловить рыбы и сварили такую жирную наваристую уху из линьков и хариусов, что соблазнительный запах ее чувствовался далеко от палатки.
— Обедаем?! — крикнул Стриж.
— Если заработали, будем обедать, а кто не заработал, тот пусть сам себе промышляет, — ответил Тагильцев.
— А вы, ей-богу, молодцы, — принюхиваясь к котлу и с радостью потирая руки, сказал Вепринцев, — Чертовски хочется есть. Я бы сейчас не только рыбу — целую свинью съел.
Стриж вопросительно поглядел на Вепринцева.
— Я думаю, не лишне пропустить перед обедом пару стопок спиртишку?
— Я и сам после такой прогулки готов выпить не хуже любого пьяницы, — охотно поддержал его Вепринцев.
Забрякали котелки, застучали деревянные ложки, приятный запах ухи, репчатого лука и какой-то дикой таежной травы, известной только Оспану, щекотал в носу, разжигая и без того отличный аппетит.
Вепринцев, ссутулясь над котелком, так часто работал ложкой и так кидал в рот хлеб и куски рыбы, что, казалось, он не жует пищу, а жадно глотает, как хищная птица.
Штейгер Гурий опять был весел и болтлив: дряблый, башмаком, нос налился и рдел, как спелая слива; маленькие глаза посветлели. Поглядывая на объемистую флягу, лежавшую возле Вепринцева, он спросил, жалко улыбнувшись:
— Нельзя ли еще одну чарочку? Старый желудок что-то плохо варит.
— Боюсь, что взорвешься, и тогда, не дай бог, что произойдет, — захохотал Вепринцев.
Гурий только грустно вздохнул.
Илюша молча хлебал из чашки. Все, что видел он в шахте, заставляло его по-новому приглядываться к Вепринцеву и его приятелю. «Нет, они не геологи, — думал он. — Но кто же они?»
31. Смертельная опасность
Всю ночь Вепринцев возился у костра: охал, скрипел зубами, ругался — его заедали комары. Их было великое множество. В парной ночной мгле стоял тонкий и бесконечно нудный писк. Никогда Вепринцев не испытывал ничего более неприятного и омерзительного. Он вспотел, обессилел — тело чесалось и ныло, и уже не хватало силы поднять руки отмахнуться. Им овладело какое-то странное безразличие: «А, с ними все равно ничего не сделаешь…»
Он поднял голову — костер чуть теплился. Над сырой росистой травой едва приметной полоской тянулся дым и облачком скапливался в лощине. За увалом, сквозь лесную чащу проглядывал серый рассвет утра… В тайге тихо: не качнется ветка, не шелохнется травинка. Вепринцев на корточках подсел к костру, собрал по его краям обгорелый хворост и кинул на угли — тихо затрещали тонкие сухие ветки, вспыхнул сизый огонь. Он огляделся вокруг — все спали, только Стриж время от времени возился, покашливая.
«Их не кусают, — с завистью подумал Вепринцев. — Черт знает, что за люди, даже комары их не трогают, спят как убитые… Однако путешествие не из приятных. От одной этой гадости можно потерять рассудок…»
А утро ширилось, разрасталось, как пожар на ветру, реже и светлее становилась тайга, глубже просторы синего неба. Где-то тихо и неуверенно пискнула синичка, цокнула белка, выглянув из дупла; на вершине черной, как осенняя ночь, пихты шумно отряхнулся столетний линяющий ворон; тучи комаров поредели — комар тоже кое-что понимает: утро ему несет мало радости, проснутся его враги — птицы, и если он не успеет убраться в глухую сырую чащу, быть ему первым блюдом на птичьем завтраке.
— Я думаю, тебе хорошо спится, — ехидно ухмыльнулся Вепринцев, заметив, что Стриж высунул из-под фуфайки взъерошенную голову.
— Ох-хо, как бы не так… — застонал Стриж. — За всю ночь ни одной минуты не уснул, загрызли… Ну, понимаешь, до мосла грызет, окаянный.
Вепринцев взглянул на Оспана, на Илюшу, спокойно и сладко храпевших под телегой.
— Им, должно быть, чертовски хорошо! За всю ночь ни один не поднялся.
— Это им впривычку, никакая холера их не берет, закалились.
Проснулись и остальные. Наскоро закусив холодной вчерашней рыбой и запив кипятком, крепко настоенных на земляничных кореньях, путники снялись с места, оставив на умятой полянке остатки пищи, кучу золы да горьковатый запах дыма.
Заросший багульником и крапивой зимняк тянулся вдоль пологого речного берега. Теперь никто не сидел в повозке: лошади выбивались из сил, часто останавливались, а впереди было еще трудней — то лесные завалы, то быстрые порожистые речушки. К полудню они добрались до полноводной бурной реки. Впереди поднимались скалистые горы. Вековая нехоженая тайга стояла в недвижимом глухом сумраке. Оспан скинул с плеча ружье, оперся на длинный ствол и внимательно огляделся.
— Дальше, однако, ехать не придется, кони не пройдут, — спокойно сказал он и, сдвинув на лоб картуз, почесал потный затылок.
— А как же быть?.. Это все на себя?.. — Вепринцев кивнул головой на повозку.
— Ничего не поделаешь, придется, — ответил Оспан.
— Я думаю, дядя Оспан, еще денек можем не бросать лошадей, — вступил в разговор Тагильцев. — Перегрузим это хозяйство на вьюки и поведем лошадей в поводу, а пустая повозка здесь постоит.
— Это было бы очень хорошо, — поддержал штейгер. — На гору с такой ношей тяжело… Нам теперь надо беречь силы, настоящие трудности только начинаются.
— Так сколько же еще километров до этого чертова ложка? — раздраженно спросил Вепринцев.
— До Оленьего?
— Олений, собачий, медвежий — одна дрянь! Мы идем вторые сутки и пока, кроме лишений и комаров, ничего не видим. Ведете нас куда глаза глядят!
— Нет, старый Оспан знает, куда он идет, — старик медленно покачивал головой. — Завяжи мне глаза, и я найду туда прямую дорогу.
— Сегодня, наконец, мы дойдем или нет?
— Однако не доберемся. Самый трудный путь остался. Кручи пойдут, да и тайга здесь шибко густая…
Поступили так, как предлагал Тагильцев: повозку и часть лишних вещей оставили под старым лохматым кедром, а все остальное навьючили на двух лошадей и тронулись в путь. Даже едва заметной зимней дороги здесь не было: шли напрямик, по мелколесью, по спутанным зарослям малины и хмеля, по волглому, в саженный рост кипрею, охваченному буйным цветением. Острые тонкие ветви, колючки шиповника и боярки глубоко впивались в лицо, в руки.
Вепринцев тяжело дышал и старался подальше отогнать от себя надоедливые сомнения. Самое тяжелое и опасное дело, в каком приходилось ему участвовать, давалось во сто крат легче, чем дорога к этому кладу.
Его догнал Тагильцев и сунул ему в руку крепкую березовую палку.
— Возьмите помощника, с ним все-таки немного полегче.
— Ах, это палка? Спасибо, — сказал Вепринцев и зашагал шире. — В Оленьем логу мы должны собрать массу образцов… Как же мы будем вывозить их оттуда?
— Это не беда. Лишь бы везти было что, черта увезем! — Тагильцев смахнул со лба мутные капли пота, расстегнул пошире ворот рубахи. — Сделаем плот, погрузим на него и до самых Рыбаков с песней… Ого-го-го, — во весь дух прокричал он, будто пробуя голос, и вдруг запел.
«Этот малый мне начинает нравиться, на такого можно положиться, — подумал Вепринцев, баском пытаясь подпевать, — Инвалид, а идет хорошо, волевой парень… Не то, что мой Стриж, едва ползет, как дождевой червь…»
Вепринцеву вдруг стало легче: усталость исчезла, в мышцах появилась упругость и сила, и тело не зудело больше, и волдыри не беспокоили. Он пел вместе со всеми, и песня ему нравилась — хорошие слова, душевный напев. Она напоминала ему что-то далекое, невозвратимое…
Они перевалили крутой скалистый хребет и, помогая лошадям и друг другу, начали спускаться вниз по тесным обрывистым карнизам. Отсюда, с вершины хребта, перед ними открывалась неповторимая картина: внизу величественно и гордо покачивались темные кроны вековых кедров, мирно и убаюкивающе шумели кондовые сосны, а еще ниже, узкой неровной полосой тянулась зеленая пойма таежной реки. Сюда доносился плеск и грохот воды на каменных порогах, преградивших стремительное течение. Река здесь с неизмеримой силой устремлялась в огромную каменную скалу, будто задалась одной целью — опрокинуть ее и стереть с лица земли. Но она так же легко и отскакивала от нее и, захлебнувшись буроватой пеной, сворачивала под прямым углом, в сторону, а там вырывалась на простор спокойной равнины. Дальше на ее пути опять поднимались скалы, пороги, лесные заторы.
Когда спустились к реке, Оспан остановился и сказал:
— На ту сторону переходить будем…
Обойдя скалу и поднявшись вверх по течению на два-три километра, они подошли к излучине, сплошь забитой бревнами, которые остались здесь еще от высокого подъема воды. Тяжелые бревна с ободранной, измочаленной корой прочно держались на мелях, на торчащих из-под воды серых окатышах и образовывали большую плотную запань. Вода здесь бурлила, пенилась, неистово кружилась в глубоких водоворотах, временами скрывалась под бревнами и потом с шумом вырывалась на вольный простор.