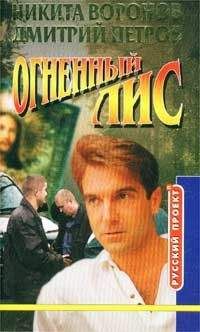— Гадина. Из-за неё я второй раз и сел!
— Как же так?
— Сблядовалась.
— Круто, — смутился Рогов. — Извини, я не хотел.
— Ты-то, может, её и не хотел, — пожал могучими плечами Дядя. — Но вот нашелся козел…
Он прикурил очередную сигарету:
— Когда я в вечернюю смену вагоны разгружал, он к ней в окно шастал. А один раз я его застал, так сказать, на месте… Здоровый был, стервец!
— Да уж вряд ли здоровее тебя, — усомнился Рогов.
Но приятель не обратил внимания:
— Я ж его предупредил тогда по-человечески. Хоть и кипело внутри все… Говорю: забудь дорогу, мил человек! Не то — убью.
— А он что же?
— Видать, не понял. Через неделю, может и раньше, это паскудство опять началось. Мне бы ещё тогда свою шельму бросить, но не смог. Понимаешь?
Виктор молча кивнул.
— Дочка маленькая совсем… — продолжал оправдываться перед самим собой Дядя. — Раскинет рученки в стороны и меня за шею обнимает. Ну как уйдешь?
— Забрал бы с собой. В суд подал! Родительские права… — не очень уверенно вспомнил Рогов.
— Тебе легко говорить, — с укоризной прищурился собеседник. — Ты с семейной жизнью не знаком еще… А она, как говорится, не поле перейти! Так?
— Вроде, так, — Виктор соскочил с подоконника и размял поясницу:
— А дальше чего было?
— Дальше-то? Да завалил я этого, незадачливого. Пистолетом.
— Застрелил? — Удивился Рогов.
— Нет. Пистолет старый был, немецкий, с войны ещё — пацанами в лесу откопали. Конечно, дал осечку… Так я его по башке!
— Правильно.
— Чего уж тут правильного… Восемь лет с одного удара! Не рассчитал я, понимаешь, малость. Какая-то косточка у него в черепушке отвалилась, теперь — дурак.
Дядя размел руками:
— Вот так меня и засудили.
— А жена? — Опять спросил Рогов.
— Падла. На следствии все показания против меня дала. И на суде тоже… Я ещё до Благовещенска не доехал, а она бегом в ЗАГС — развелась.
— А дочь-то что? Видишься с ней сейчас?
— Вижусь. На КПЗ когда сидел, следак сжалился — разрешил свиданку. Мать моя дочь с собой и привезла…
Шипов опять всхлипнул, отер накатившую слезу:
— Она меня как прежде за шею обняла, говорит: «Дядя, я тебя очень люблю!» Во как…
— Это жена его, мразевка! Научила так дочку говорить.
Виктор поднял глаза.
В дверях уборной, оперевшись плечом о косяк, стоял полусонный Росляков:
— Вот с тех-то пор мы его Дядей и прозвали.
Славка подошел к умывальнику, открыл кран и плеснул себе водой в лицо:
— Понимаешь, Витек… На прошлой неделе на свиданку я ходил. Помнишь, небось?
— Ну, конечно.
— Так вот, мать моя приезжала, а дочку с собой не привезла. Говорит жена не пустила. Вроде бы, какого-то другого папу ей нашла, с-сука.
— Удавил бы! Ей-Богу удавил… — Рогов выругался самой грязной бранью и начал бегать по туалету из угла в угол.
— Пошли спать, братва, — предложил Васька. — Все равно, ори не ори сидеть нам здесь ещё долго. Берегите нервы.
— Ну уж на хрен, — вскинулся Шипов. — Вы как хотите, а я сидеть больше не могу. Сваливаю я!
— Во, отмочил! — Рогов даже присел от удивления на корточки.
— Вот поглядишь…
— И когда же вы изволите отчалить? — Хмыкнул Росляков.
— А хоть завтра! К примеру, заберусь под вагон, когда состав из зоны выгонять начнут.
— Не годится, — Рогов помотал головой. — Под вагоном найдут, там спрятаться негде.
— А если в бочку залезть? С пищевыми отходами? И трубку наверх вытянуть, чтобы дышать?
— Нет. Не выйдет.
— Почему это?
— Бочку блевотиной этой почти неделю заполняют. А сейчас зима, морозы… Сверху набрасывают, а внизу уже затвердело. Ты в неё просто не влезешь!
Росляков, часто моргая, глядел на приятелей в изумлении:
— Вы чего, серьезно?
Потом покрутил пальцем у виска и направился к выходу.
— Лечиться вам надо, хлопцы… — посоветовал он уже из коридора. Прямиком в санчасть! А я спать пошел, до подьема-то часа два осталось, не больше.
— Отличные брючки! Ей-Богу, отличные… Почти новые, вот здесь только подлатать и под коленкой чуть-чуть… Нет, что ни говорите, а брючки достались прямо-таки кайфовые.
Контролер Еремеев чмокнул от удовольствия губами и вытянул их в трубочку, который уже раз встряхтивая перед собой чьи-то поношенные джинсы. Прищурился, прикинул на свет протертость материала:
— Все в порядке! Не прогадал.
В дежурку заглянул прапорщик Коваленко. Рассеянно прошелся туда-сюда, сплюнул пару раз в корзину для бумаг и раскорячась опустил задницу на старый, скрипучий табурет.
Он ещё не проронил ни слова, но по вопросительному движению брови прапорщика Еремеев уже догадался, о чем пойдет речь.
И не преминул похвастаться:
— Этап пришел сегодня. Аж — из улан-удинского талды-балды-калды автономного…
Коваленко кивнул: дескать, вопрос исчерпан. Но контролера понесло:
— Человек под тридцать зэков прикатило. И почти все в вольных шмотках! Как положено, всем по новой робе выдали, а это, — Еремеев любовно погладил джинсы маленькой рыжеватой ладошкой, — это все в общую кучу, для последующего оприходования. Народу сбежалось уйма! Мы с Гелязитиновым даже сцепились. Ему пиджачок вельветовый достался, такой… коричнево-ржавый. Так он, старый гомосек, хотел его мне всучить, а себе, значит, джинсы представляете?
— Ну, и как же ты устоял? Штанов не лишился? — Без особого интереса хмыкнул Коваленко.
Видно было, что мысли его заняты чем-то другим. Растаскивание же личных «неположенных» вещей вновь прибывших на зону зэков считалось делом обыденным и, несмотря на явную прибыльность, прапорщика оно уже давно не прельщало.
— Рогом уперся — ни в какую! — Гордо подбоченился Еремеев. Потом, подмигнув, добавил:
— И не прогадал… Татарин-то после получше свой трофей ощупал, а он сплошь кишит вшами. Не то, что брючата мои — вот они, целехонькие. Почти и не ношены, глянь!
Коваленко раздраженно отмахнулся и даже передвинул табурет чуть подальше. Но увлекшийся контролер все продолжал совать штаны ему прямо в нос:
— Да ты глянь, глянь! Почти не протертые, вот тут только, а так… Фирменная вещь. Похоже, английская.
— С чего это?
— Вот тут — на пуговицах и на жопе написано… Буквы не наши, и слово, — Еремеев сощурился и прочел:
— Т-з-а-р… Тзар!
— Барахло кооперативное, — разочаровал его прапорщик. — Такого говна сейчас везде полным-полно.
— Это почему же говно? Почему же кооперативное? — Еремеев насупился и спрятал джинсы за спину. Затем, окинув подозрительным взглядом коллег-контролеров, до того молча наблюдавших за беседой из дальнего угла дежурки, вновь выставил трофей на обсуждение:
— Ну, нет! Глядите. Ясно же написано: «Тзар». Слово, факт, английское, и буквы…
— Тзар! — Передразнил Коваленко. — «Царь», дурья твоя башка… Название русское, но написано по-ихнему. Мода сейчас такая пошла — язык коверкать на их манер, понимаешь? По-русски напиши — никто не купит, а раз из-за бугра, то с руками оторвут.
Еремеев смутился, его даже передернуло, будто на язык попало что-то кислое. Он даже чуть присел и сьежился, как от удара ниже пояса, но буквально через мгновение совладал с душевным конфузом, приосанился, подтянулся…
Сунув джинсы в ящик письменного стола, контролер показал сослуживцам кукиш:
— Плевать! «Тзар», так «тзар»… Все равно брючата отличные, ещё пару лет носить, не переносить. Я под них себе ещё и кроссовочки притарил — вот тут только подклеить…
Коваленко брезгливо поморщился от появившейся на свет вонючей пары обуви и потянулся к «общему» чайнику, закипавшему на самодельной электроплитке:
— Давайте-ка лучше попьем горяченького. Так сказать, чифирнем… Я пачку индийского принес.
— И правильно! — Поддержал его вошедший в помещение Плющев. Вслед за собой опер затянул внутрь волну уличного холода:
— Наливай.
Подхватив с подоконника пыльный стакан, он подал его Коваленко.
Сослуживцы расселись кружком, поуютнее. Подождали, пока покрепче заварится, чифирнули как положено, расслабились…
На улице — мороз, выходить не хочется. И, конечно же, первым напустил на себя деловитость Плющев:
— Послушай, Леха. Понимаешь…
Прапорщик молча изобразил лицом почтительный интерес.
— Да нет, ты пойми правильно! Есть у меня некоторые сомнения. Или, точнее сказать, подозрения… Сам не знаю, как обьяснить, но жопой чую что-то неладное творится.
Коваленко по-прежнему молча глянул в окно и предложил оперу сделать то же самое.
Картина их взору представилась следующая. Прямо напротив столовой, как развороченный снарядом фашистский танк, мозолила глаза ржавая металлическая бочка ведер на двести, установленная на одноосный тракторный прицеп.