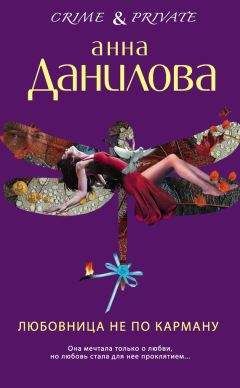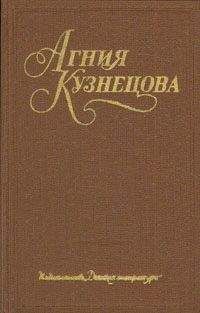После смерти мамы мы с отцом всеми силами пытались вести себя так, словно она жива, то есть старались не нарушать маминого порядка. По очереди делали уборку, я взял на себя обязанность гладить белье – я прежде никогда этого не делал, глажка всегда казалась мне наискучнейшим и бесполезнейшим занятием на свете. Готовили мы с отцом вместе по вечерам. А в выходные дни пытались печь пироги или жарить оладьи. Но тесто не поднималось, все было невкусным, пресным, неудачным… Думаю, мама – если она наблюдала каким-то волшебным образом за нами – очень расстраивалась, видя наши безуспешные попытки жить по-прежнему.
Отец все больше уходил в работу. Он и так-то был очень увлечен ею, но теперь, как мне казалось, он старался еще больше времени проводить в своей лаборатории. Мне тоже не хотелось вечерами находиться в квартире одному. И я искал утешения в объятиях своих подружек. Мне хотелось ласки, которой я недополучал, когда мама была еще жива (мне стыдно говорить об этом, но мама редко меня обнимала, редко говорила ласковые слова, ей куда важнее было вкусно накормить меня, дать мне денег на очередной велосипед или компьютер). Стоит ли объяснять, как мне стало холодно после ее ухода! В силу невозможности привести подружку к себе домой, поскольку это нарушило бы и без того наш с отцом сломанный жизненный уклад, я мог до утра находиться с девушкой в какой-нибудь частной гостинице или на чужой даче (на свою я никого повезти не мог – там все напоминало о маме). Позже я нашел на Маяковке недорогую квартиру и снял ее втайне от отца. Девушки хотели от меня любви, страсти, я же, раненный чувством утраты, искал у них элементарного человеческого и физического тепла. Мне нравилось спать, обнявшись с девушкой, под одним теплым одеялом.
Огромное пуховое теплое одеяло сшила из двух одеял Зоя.
Зоя – женщина моего отца. Новая женщина. Теперь уже жена. Он привез ее к нам, такую испуганную, с осторожным взглядом, и она несколько минут стояла в нерешительности на пороге. Ясно, что она испугалась меня – кого же еще! Знала, что я не обрадуюсь ее приходу, подумаю, что нас всех, возможно, ожидают нелегкие времена. Она много пережила, это я понял сразу, как только увидел ее. У нее был такой взгляд – взгляд много пережившей женщины. Молодая, но уже успевшая хлебнуть горя. Я и сам не могу объяснить, почему я все это так четко понял. Она была не уверена в себе, шарахалась первое время от меня, пряталась в спальне и покидала ее, думаю, лишь когда я уходил из дома.
Она очень красивая, но не знает об этом. Думаю, ей этого никто не говорил, кроме моего отца. Если бы она знала об этом, то не жила бы с моим отцом. О таких говорят, что у нее занижена самооценка. У нее она вообще ниже плинтуса.
У нее белая кожа, черные брови и очень черные глаза. Ей около тридцати лет. Будь она постарше, нас могли бы принять за мать и сына. Странно, но я чувствую, что похож на нее. Моя мать тоже была брюнеткой, у нее были роскошные черные волосы, и глаза тоже черные, глубокие. Но Зоя совсем другой типаж. У нее теплая красота, и черты лица более нежные, чем у моей матери. Она худенькая и вместе с тем какая-то округлая, изящная и очень нежная. Когда я в первый раз увидел, на кого отец променял мою мать, внутренне взбунтовался, мне стало больно. Ведь Зоя была воплощением самой жизни – в то самое время, как кости моей матери тлели в могиле! Меня раздирали самые противоречивые чувства. Если бы я встретил Зою в другом месте и при других обстоятельствах, я захотел бы, чтобы она была моей. Взял бы ее за руку и повел за собой. Сделал бы все в точности так, как и мой отец, когда он встретил ее. Но все получилось по-другому. И я злился на себя из-за того, что испытывал к Зое и страсть, и ненависть одновременно. Внешне я всегда демонстрировал ей свое пренебрежение. Знал, что она страдает, но все равно не мог вести себя иначе. Пусть отец думает, что я ревную ее к нему, отношусь к ней как к дешевой замене моей матери, страдаю оттого, что кто-то занял место мамы в сердце и в жизни отца. На самом деле все было не так. Я ревновал Зою к отцу как к мужчине! Мне невыносимо было знать, чем они занимаются в спальне. Это одеяло, огромное… Она при мне сшивала его из двух пуховых одеял, сидя за столом в гостиной. Швейная машинка моей матери покорно строчила ровный шов, соединяя два одеяла, как будто соединяя судьбы моего отца и этой женщины. Мне невыносимо было видеть ее, сидевшую на том месте, где еще недавно сидела мать – она то шила занавески для гостиной, то подрубала новые вафельные кухонные полотенца, то подшивала мне джинсы, моя мама…
– Алик, познакомься, это Зоя. Она будет жить с нами. Со мной.
Если бы когда-нибудь кто-нибудь посмел мне сказать, что отец приведет в дом другую женщину и произнесет эти слова, я бы плюнул этому человеку в лицо. В нашем доме не должен был появиться чужой человек! Это была наша семья, наша жизнь и наша квартира. Так думал я до появления Зои.
А она в первый же день приготовила борщ. Из кухни, где она колдовала над кастрюлей, доносились забытые звуки: звяканье посуды, постукивание острия ножа о деревянную доску, хруст разрезаемой капусты, мягкий, войлочный звук домашних тапочек, шуршавших по паркету… А потом по квартире поплыл аромат мясного бульона и свежего укропа. Я боялся признаться себе, что с появлением Зои наш дом ожил. Он задышал, заволновался, наполнился свежим воздухом, миллионами самых разных живых запахов и ароматов, звуками, движением, светом!..
Но я решил: отец не должен знать о том, что я в душе обрадовался появлению Зои. Его чувство вины придавало мне сил. Мне тогда казалось, что я сильнее отца. Во всяком случае, я всячески пытался продемонстрировать ему, что правда на моей стороне и что он предал маму. Быть может, позиция такая была выгодна мне – хотя бы потому, что под маской обиженного на весь мир сироты я прятал свое зарождавшееся чувство к Зое. Надо сказать, я довольно-таки талантливо играл роль сына, которого предал собственный отец. Чего стоили одни только взгляды, которые я бросал на своего отца! Правда, иногда мне хотелось прекратить эту бессмысленную игру, подойти к отцу, крепко обнять его и сказать ему на ухо: «Я с тобой, старик! Я все понимаю».
И я действительно все понимал. Мне как-то очень скоро стало ясно, что отцу с моей матерью было неинтересно. Он, возможно, никогда ее и не любил. Между ними никогда не было тех нежных и любовных отношений, какие я наблюдал у моего отца и Зои. Возможно, моя мать была холодной женщиной. Положительной, порядочной, но холодной. Думаю, она и сама не понимала это и уж тем более не была в этом виновата. Человек рождается холодным, как моя мама, или страстным, как Зоя. Я в этом уверен. И не думаю, что, будь у моей матери иное воспитание, она была бы другой и испытывала бы к моему отцу страстное чувство.
Да, так все это, вероятно, тогда и было. Ведь он сильно изменился. Прямо на моих глазах происходило превращение – из унылого, скучного, стоявшего над пропастью неврастении перезрелого мужчины в сильного, восторженного молодожена. Обычно о женщинах говорят, что они расцветают. Но мой отец тоже расцвел. У него даже щеки порозовели. И есть он стал больше. Словно распробовал наконец то, что ему готовили. Мама тоже хорошо готовила, но у Зои это получалось вкуснее. Быть может, она делала бульоны понаваристее или просто душу в дело вкладывала, я не знаю. Но я тоже стал есть больше. Мне нравилось приходить из университета, распахивать холодильник и искать там какие-нибудь вкусности вроде салатов, грибов, рулетов, запеканок… А уж если Зоя бывала дома (а постепенно, конечно, она привыкла ко мне и перестала прятаться от меня в спальне), горячий и сытный обед был мне обеспечен. Вот только мне не нравилось, что она ухаживает за мной как за ребенком, словно я мальчишка. Поэтому я зачастую представлял себе, что это я – ее муж, а не мой отец, и я вроде бы пришел с работы, а она, эта красивая женщина, подает мне обед, обхаживает меня, разве что не целует…
Конечно, она не замечала ни моих пылающих щек, ни быстрых взглядов, которые я бросал в вырез ее блузки или, когда она поворачивалась ко мне спиной, на ее обтянутые юбкой или брюками стройные бедра. Да ей и в голову бы, наверное, не пришло, что я могу испытывать к ней что-то еще, кроме презрения и ревности. А я ни разу не улыбнулся ей. Ни разу! Мое лицо каменело, когда она смотрела на меня. А внизу живота появлялось сладостно-болезненное чувство. Иногда мне приходилось прямо-таки маскировать набухший ком в джинсах, я или прятался за спинку стула, или, сгорая от стыда и желания, отворачивался и почти убегал в свою комнату.
Я страдал. И никому не мог об этом рассказать. Да даже себе самому было трудно признаться, что я влюбился в свою мачеху.
Сказать, что я хотел бы – пусть Зоя увидит меня, сжимающего в объятиях лаборантку Катю… Может, и да, но, скорее всего, нет. Думаю, она испытала бы шок, разочарование. Особенно если учесть ее воспитание и характер, можно было бы предположить: она набросилась бы на нас, особенно на Катю, схватила бы ее за волосы… Да, отвратительная бы вышла сцена. Но по мне, чем естественнее она бы себя вела, моя ненаглядная Зоя, тем счастливее был бы я, это точно. Мне кажется, что я и полюбил-то ее за эту естественность, за природную открытость и редкую красоту. Впервые увидев ее, я сразу подумал – повезло мужчине, который имеет право на нее! Вероятно, я по натуре собственник. Вот и про мужчину того я тоже подумал, что он собственник и что эта женщина является его собственностью. Как же иначе, рассуждал я, разглядывая ее избитое, в синяках лицо, распухшую губу. Бьет, скотина, такую прелестную женщину, совсем озверел! Либо он пьяница, либо отморозок, подонок, негодяй – не человек, одним словом.